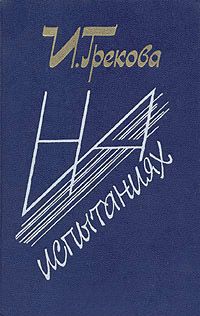А «разлучница» Милочка, к которой уходил и в конце концов ушел Борис, работала машинисткой в редакции журнала, где его иногда печатали. Не статьи — статейки (он про себя говорил: «Я — мастер малого жанра»). Их он подписывал дурацким, по-моему, псевдонимом «Борис Ревностный» (фамилия «Реутов» казалась ему вульгарной). Милочка по многу раз перепечатывала эти статейки, он относил их к редактору, и после каждой правки они становились безличнее. Милочка жалела автора, а жалеючи, видно, и полюбила. Я ее видела как-то раз мельком — ничего особенного. Не то чтобы дурна собой, но и не хороша, хотя молода: на двадцать лет его моложе. Маленькая, дохленькая, неприятно порхливая (хотелось ее прихлопнуть, как моль). Чем она его приманила? Разве что восхищением, это мужчины любят. Дома он восхищения не видел, что правда, то правда.
Ушел, поселился у своей возлюбленной в коммуналке. Помню, даже не без удовольствия представляла себе, как он там стоит в очереди к местам общего пользования с подтяжками, повисшими вдоль брюк… Экое мелкосердечие! Сейчас (в настоящем) я думаю о нем без всякой горечи. Даже с долей жалости. Не надо было ему жениться на мне, а мне выходить за него.
В сущности, ушел даже довольно благородно: разговоров о размене квартиры не затевал, а ведь мог бы… Квартира осталась мне с сыновьями; мальчики жили в угловой с балконом, а я в бывшей супружеской.
Ушел, но долго не мог оставить меня в покое. Чего стоили одни Милочкины ночные звонки! Почему-то любила выяснять отношения ночью по телефону, лежа в постели с Борисом. Только задремлешь — звонок. «Слушаю». Тонкий голос, комариный писк: «Кирочка Петровна, я знаю, вы переживаете… („Ничего я не переживаю“, — пытаюсь прорваться, не слушает.) Боря тоже кошмарно переживает, буквально плачет, слезы крупные, как… как рюмки. Хотите, я сейчас дам ему трубку?» — «Не хочу». Включался Борис, говорил, хлюпая: «Кирюша, выслушай!» Я бросала трубку. Через минуту опять звонок: «Кира Петровна, почему вы отказываетесь выслушать Борю? У него же язва! Она может… как это… пробо… прободаться!» Снова трубку — на рычаг. Опять звонок. А вдруг из больницы? И снова — назойливый писк. А утром, как всегда, рано вставать. Гимнастика, прическа… Волосы тогда были длинные, ниже пояса, пока их расчешешь, пока заплетешь… Советовали мне остричься, я — ни в какую.
Слава богу, через полгода примерно звонки прекратились. Борис успокоился, Милочка родила ему дочь, и оба погрузились по уши в воспитание ребенка.
Значит, когда он уходил. Милочка уже была беременна. Даже элемент какого-то благородства был, оказывается, в его уходе… Это даже как-то расположило меня в его пользу. Кроме того, стало ясно, что без Бориса живется мне куда лучше, спокойнее. Проще стало с хозяйством. Придя с работы, приятно войти в комнату: порядок, не висят на стульях ни брюки, ни свитера, ни подтяжки («Мужчина немыслим без подтяжек», — любил изрекать Борис). Помню, как я тогда любила свою комнату — одинокую, чистую, с высоким потолком (в новых домах потолки меня давят). Какая-то стройная, умная, да, умная комната. Мало вещей, много воздуха. По вечерам за окном на длинных изогнутых стеблях горят фонари. За ними, в полутьме, нагромождения разновысоких зданий, ступенчатый силуэт города. Над ним небо, бронзоватое (вечернее небо в городе отливает бронзой). В небе прогуливается месяц — тоже умный, вглядчивый.
А главное — сама себе хозяйка, делай что хочешь, зажигай лампу, читай. Ложись на любой бок, не чувствуя за спиной страдальческого кряхтения: «Кирюша, ты не могла бы…» Скажем, накапать лекарство. Борис всегда (даже до язвы) жаловался на какие-то недомогания: то у него горло болит, то в ноге судорога…
Впрочем, хватит о нем, о Борисе. В то счастливое утро только боком прошел он по краю сознания. Дай ему, как говорится, бог счастья. Им с Милочкой. У меня свое счастье — работа.
Вот и пришла. Привычно и радостно увидела любимое здание больницы желтое, с белыми колоннами, с мягко круглящимся зеленым куполом. Теперь куполов почему-то не делают (все шпили да шпили), а ведь как красиво… Наружная лестница полукольцом обнимает фасад. Легко поднялась по ней, потом — на второй этаж. В служебной раздевалке надела свежий халат, шапочку, туфли — удобные, но на каблучке. В конце коридора — зеркало, высокое, во весь простенок. В нем не без удовольствия увидела белую стройную фигуру, туго стянутую поясом…
Первым делом, конечно, к Максимовой. Больная спала — спокойно, тихо. Даже намек на румянец на впалых щеках. Ресницы на них лежали отдохновение. «Если бы не я, — подумалось с гордостью, — могла бы уже быть в мертвецкой». Любочка, бледная после ночи, поднялась с кресла, видно, на нем и прикорнула…
Я ей тихо: «Ну как дела?» Ответ шепотом: «Хорошо, спит».
Больная все-таки проснулась.
— Как вы себя чувствуете, Вера Никитишна?
(Непременно по имени-отчеству. Так сама называла больных, того же требовала от подчиненных. В конце концов не так уж трудно запомнить.)
— Хорошо чувствую, Кира Петровна. Только спать все время хочется. Ничего это?
— Очень хорошо. Спите себе на здоровье. А теперь, раз уж проснулись, я вас посмотрю.
Послушала сердце, измерила давление. Вполне прилично! Ничего похожего на то, что было.
— Ну, спите, спите.
Отошла. Ведь на волоске висела жизнь! Теперь укрепилась. Ради таких минут и стоит жить…
В ординаторской, конечно, накурено. Сколько ни боролся Главный с курением («кроме специально отведенных мест») — не помогало. Вошла, сказала, отмахиваясь от дыма:
— Топор можно вешать. Здравствуйте, товарищи. Ну, как у вас тут? Никаких чепе?
Дежурный врач Нина Константиновна доложила, ничего экстраординарного. Максимова в норме. Привезли двоих с «острым животом» — направила в хирургию. Один сомнительный случай: «скорая» доставила с подозрением на инфаркт миокарда. Я пока карточку не заполняла, ждала вас. Вы же у нас лучший диагност. Посмотрите ее? Фамилия — Шилова. Положили пока в коридоре.
Экие бегучие серенькие глаза! До смерти боится любой ответственности. Пожилая, маленькая, похожа на цирковую обезьянку, наряженную врачом. Кривоватые ноги-палочки; винтом перекрученные, спущенные чулки. Ну можно ли врачу так выглядеть?
Больная Шилова, Людмила Александровна, лежала в коридоре на приставной койке лицом вниз. Густая темная коса свесилась с изголовья. На подушке спутанные пряди. Хоть бы причесали ее, что ли…
Тронула за плечо; она чуть повернула голову, доказав профиль удивительной красоты и четкости. Живая камея.
— Людмила Александровна, как вы себя чувствуете?
— А никак не чувствую. — Неживой, плоский голос.
— Если можете, лягте на спину, я вас послушаю. Вам помочь?
— Не надо. Сама.
Ловко, молодо повернулась на спину. Я увидела ее второй глаз — весь заплывший, обведенный сине-багровым.
— Что это у вас с глазом?
— С мужем поговорили.
Равнодушно так ответила, сухо. Не суйся, мол, не в свое дело. Равнодушно дала себя выслушать. Тоны чистые, наполнение приличное, перебоев нет. Немножко частит, но в пределах нормы.
— А теперь, Людмила Александровна…
— Люся, — перебила больная. — До Александровны не доросла. Или уж так постарела?
— Ладно, пусть Люся. Вижу, глаз у вас подбит. Да и на груди синяки. Дайте мне осмотреть вас подробнее.
— А это вы посмотреть не хотите? — Взяла в горсть пук волос, без усилия отделила его от головы и отбросила. Концом вплетенный в косу, он лег поперек подушки. — И так вся голова. Не знаю, на чем коса держится. Таскал-таскал, волочил-волочил… Смерти нет на него, паразита. Он таскает, а я про себя молюсь: господи, убей его громом-молнией! Не убил. Правду говорят: нету бога.
— Бога нет, люди есть зато.
— Мало этих людей.
— Достаточно. Это вам не повезло, что вы их мало встречали.
Задумалась. И вдруг:
— А как я без волос-то ходить буду? Срам один. Как каторжница.
— Не горюйте по волосам. Мы вас подстрижем, еще красивей будете. А волосы отрастут. Волос вообще живет две недели. Если б на месте выпавших новые не вырастали, мы бы все лысые ходили.
Усмехнулась:
— Волосы что? Жизнь он мою растерзал. Не осталось во мне ничего. Хотите — смотрите.
Вся в синяках. Живот — особенно. Осторожно стала пальпировать: здесь больно? А здесь?
— Нигде особо не больно. Нормально. Кроме как в сердце.
— Как, сейчас? Сердечные боли?
— Нет, это я так говорю: в сердце. Не в сердце, а в душе. Словно клещами душа стиснута. Вчера, как волтузил он меня, точно была боль в сердце. Ровно ножом полоснуло. Ору как резаная. Соседка через площадку и то услыхала, неотложку вызвала. Та приехала, сказала: инфаркт. Думаю, глупости, отродясь у меня никакого инфаркта не было. А вы как думаете, доктор: есть он у меня, инфаркт?