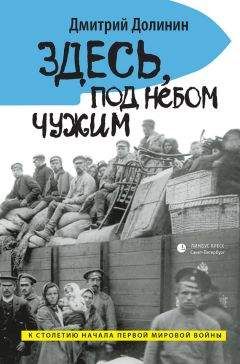— Простите, товарищ полковник… Некоторым образом…
— Да нет, я тут ни при чем. Вот девушек бы пожалеть следовало. А так что ж, — сразу виден старый солдат!
— Потомственный казак, товарищ полковник. Терской линии, станицы Червленой! — Усач явно обрадовался перемене разговора.
— Наш начальник милиции, — сказал Долинин. — Батя. Может, слышали?
— А, Батя! Тот самый Батя? — припоминал Лукомцев. — Фамилия ваша, если не ошибаюсь, Терентьев?
— Так точно, товарищ полковник: Терентьев! — Начальник милиции молодцевато развернул перед ним грудь и поправил на боку тяжелую пистолетную кобуру чемоданного типа.
— Трофейный? — указал глазами Лукомцев.
— Под Федоровкой взял. Иду огородами, бой вокруг неслыханный, вижу — немецкий обер–лейтенант…
— Действительно, неслыханная история! — рассмеялся Долинин. — Четвертый раз рассказывает, и все по–разному. То под Вырицей это было, то в каком–то окружении — не знаю уж в каком, — то у шпиона отнял…
— Охотник и рыболов — отсюда и все качества! — сказал Солдатов тоном, по которому можно было судить, что он давно и бесповоротно утратил веру в правдивость слов терского линейца.
Удивительно было: одни из присутствующих в кабинете секретаря райкома несколько месяцев провели в немецких тылах в постоянной опасности, в стычках и походах, другие пережили долгую тревогу за них, а вот встретились наконец — и как будто ничего этого и нет, — шутят, острят, как в недавние мирные времена.
Беседу прервал вновь появившийся в дверях Ползунков.
— Машина товарища полковника готова, — сказал он.
Лукомцев поднялся, надел папаху:
— Ну, друзья мои, до свидания! Рад, что нашел тебя, Долинин. Будто дома побывал. А ты приезжай. Думаю, найдешь: на твоей земле стоим.
Выходя из комнаты, он хлопнул. Ползункова по плечу.
— Разобрался наконец в папахах? То–то!
— Да уж извините, товарищ полковник. Сразу–то не узнать вас. Как–то посурьезнели вы за зиму.
— Ишь хитрец! Посурьезнели! Какую дипломатию развел. Говори прямо: постарел!
Проводив Лукомцева, Долинин сказал партизанам:
— Теперь отдыхайте. Помещение вам есть, харч тоже обеспечен. Пару деньков погуляете, а там подумаем и о дальнейшем.
Когда остались вдвоем с Солдатовым, тот сказал:
— Подарок тебе, — и вытащил из кармана маленький вороненый маузер. — Как, ничего игрушка?
— Замечательная! Спасибо. — Повертев пистолет в руках, Долинин спросил: — А кстати, Наум, откуда у тебя этот одноглазый?
— Виктор Цымбал? Пристал к отряду, там, в тылах. Говорит, из окружения выходил. Глаз ему осколком еще в начале войны повредило.
— Документы есть?
— Свидетельство тракториста, кажется.
— Странноватый парень, Наум.
— Ну что ты! Он с нами второй месяц. Славный парень, а не странноватый. Это именно он мост через Оредеж взорвал. Помнишь, Информбюро сообщало? В налете на Сиверский аэродром участвовал, в рукопашные бои ходил — поглядел бы ты как! — даром что одноглазый.
— А знает его кто–нибудь из наших?
— Как его знать! Он из–под Волосова, в МТС работал.
Проводив Солдатова, Долинин позвонил начальнику районного отделения НКВД:
— Пресняков? Зайди вечерком, дело есть.
Часу в десятом вечера, когда усталый, не спавший две ночи Пресняков подумывал, не пора ли уже идти к Долинину, милиционер Курочкин привел в отделение человека в засаленном ватнике, в перевязанных телефонным проводом разбитых опорках и в старомодном, времен гражданской войны, красноармейском шлеме с шишаком.
— Второй раз, товарищ начальник, этого типа вижу, — сказал Курочкин. — Как–то было, он под железнодорожным мостом путался. А сегодня, гляжу, — на берегу возле канонерок что–то такое колдует в потемках. «Ты что тут?» — спрашиваю. «Рыбки половить», — говорит. «А какая тебе рыбка? Ледоход. И где снасть?» Ничего нету.
— Терентьев где? — Пресняков недовольно поморщился. — Тоже поди рыбу глушит?
— Не могу знать, товарищ начальник. В отделении нет. Разве же иначе я бы повел этого гаврика к вам!
— Паспорт! — коротко приказал Пресняков.
Оборванец достал из кармана бумажник, извлек из него такой же, как и его ватник, засаленный паспорт.
— Щи можно варить. — Пресняков брезгливо перелистывал грязные странички.
Но, несмотря на такой вид, паспорт был в полном порядке. Из него явствовало, что Иван Петрович Слизков прописан в Ленинграде и работает на станкостроительном заводе.
— Зачем здесь? — по–прежнему коротко продолжал Пресняков.
— По огородам хожу, — мрачно отвечал оборванец. — Думал, картошки прошлогодней не осталось ли, кочерыжек. Жрать охота, товарищ начальник.
Вид он имел столь унылый и изможденный, что поверить, ему было нетрудно; в эти весенние дни многие приходили из блокированного Ленинграда и, выискивая на проталинах, на старых картофельных полях хоть что–нибудь годное в пищу, бродили чуть ли не у самых передовых траншей.
Кроме паспорта, у парня нашлись еще профсоюзный билет, мопровская книжка и заводской пропуск. Пропуск был просрочен, но Пресняков знал, что в Ленинграде работали далеко не все предприятия и на многих из них; даже и людей–то таких поди не было, которые бы занимались выдачей новых документов, и ничего подозрительного в несоответствии сроков не усмотрел.
— Проверь–ка у него карманы, — сказал он на всякий случай Курочкину.
Парень сам с готовностью вывернул то, что Пресняков назвал карманами. Как только там, в этих дырявых вместилищах, держались, не проваливаясь, перочинный нож, несколько пуговиц разных размеров, грязный носовой платок, зажигалка и кисет с махоркой, — невозможно было представить… Пресняков в нерешительности почесал над бровью кончиком карандаша и сказал парню:
— Забери свое барахло и выйди, посиди там.
Парень вышел и уселся в передней на решетчатую садовую скамью перед длинным, изрезанным ножами столом, возле дремавшего шофера пресняковской машины — восемнадцатилетнего Васи Казанкова. Курочкин прикрыл за ним дверь.
— Как же быть с этим типом, товарищ начальник?
— Вот я и думаю… Впрочем, о том надо бы не меня, а тебя спрашивать. Ты известный Нат Пинкертон.
Милиционер виновато улыбнулся. Пресняков намекал на конфузный случай, когда он, Курочкин, задержал нового бухгалтера фанерного завода, приняв его за вражеского лазутчика.
Пресняков тоже улыбнулся, зевнул и, чтобы разогнать дрему, стал скручивать цигарку из табака, удивительно напоминавшего старую мочалу.
— «Матрац моей бабушки», — сказал он. — Кури!
— «Лесная быль», — добавил Курочкин и взял было щепотку, но свернуть ему не удалось: в прихожей раздался звук, не оставлявший сомнения в том, что кто–то получил пощечину; затем там началась безмолвная возня. Курочкин поспешно распахнул дверь, и Пресняков увидел, как Вася Казанков, приставив кулак к носу оборванца, другой рукой тряс его за грудь трещавшего ватника.
— Опять скандал! — сказал Пресняков сквозь зевоту. — Когда я наконец отучу тебя, Казанков; от самоуправства?
— Портсигар стащил, товарищ начальник! — кричал возбужденный Казанков. — Он мне, может быть, дороже денег. Подарок же!
Пресняков вышел в переднюю:
— Отпусти! — сказал он Казанкову.
Первым движением оборванца было схватить валявшийся на полу шлем, но Пресняков ловко отбросил ногой в сторону этот музейный экспонат и поднял его сам. В шлеме лежали два листка бумаги из ученической тетради в клетку. Один чистый, а на другом черным карандашом были вычерчены неровные кубички и прямоугольнички, рядом с ними — извилистая заштрихованная полоса и на ней, по краям, — несколько сильно удлиненных овалов.
Пока Пресняков рассматривал чертеж, Казанков рассказывал Курочкину:
— Хочу закурить, — у меня тут на столе портсигар лежал, — гляжу, нету портсигара. Куда он мог подеваться? Ясно, что его работа. А то чья же еще?
Курочкин обыскал парня, и портсигар из пятнистого, павлиньих расцветок целлулоида нашелся за пазухой его ватника.
— Что я говорил? — Казанков замахнулся. — Громила!
Парень испуганно отступил, а Пресняков, не отрываясь от корявого чертежа, приказал:
— Обыскать!
Парня снова ввели в кабинет. На этот раз Курочкин не только распотрошил все его карманы, он исследовал и опорки, подпорол подкладку ватника, но, кроме огрызка карандаша, ничего больше не обнаружил.
— Что это? — спросил Пресняков, указывая на чертеж.
Парень молчал.
— Что? Добром тебя спрашиваю.
— Огороды, — ответил оборванец. — Где картошку искать. Мне сосед показал, он бывал тут раньше.