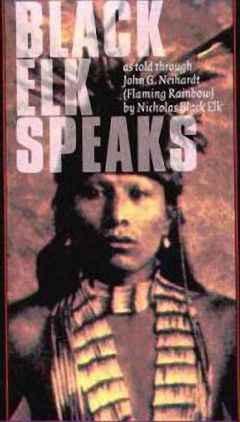И уже по пояс голый, блаженно фыркая под горячей водой, которую лила ему на спину и голову Елена Степановна, продолжил начатый у ворот разговор:
— Ты, мать, говоришь: в институт бы Андрюшке. А я думаю, пускай поест ему пот глаза. Сразу Андрюха видеть лучше станет. Рассмотрится и поймет: в институт ли ему, в академию ли, здесь ли работать... Ель! Ты что это уставилась на меня и молчишь?
— Да так, вспомнилось разное. — Она забрала у него полотенце.
В утреннюю тишину улицы ворвался яростный конский галоп. Шарахались из дорожной пыли куры, отчаянно взвизгнул чей-то поросенок.
На вороном жеребце пронеслась Граня.
— Убьется!
— Гранька? Ну, нет!
На площади возле школы ей удалось справиться с непокорным злым буденовцем, повернуть его назад. Иван Маркелыч залюбовался Граней.
— Отчаянная девка!
У Елены Степановны ревниво сузились глаза.
— Непутевая.
Он не успел ответить — жена ушла. Иван Маркелыч улыбнулся: «Обиделась! Ох, эти бабы, всегда им что-то взбредет...»
У ворот Пустобаевых Граня соскочила с коня, кинула повод на плетень и — бегом во двор. Сейчас же оттуда донесся надтреснутый голос Петровны.
— Осинька!.. Сергеевич!.. Ай ушел куда?.
Появилась Граня так же бегом. Взялась за луку, но жеребец приседал, пятился — больно уж непривычный наездник. В седле она сердито оправила взбившееся выше колен платье. Увидела Елену Степановну, идущую с водой от колодца.
— Теть Еля, вы не видели Пустобаева, дядь Осю? — Конь под Граней нетерпеливо танцевал, кружил на месте, щеря желтые зубы.
— Нет, не видела.
— Куда делся... На ферме корова подыхает...
Концом повода стегнула жеребца, он крутнул хвостом и с места взял наметом. Елена Степановна постояла, посмотрела вслед и пошла искать на заднем дворе цыпленка, заблудившегося в лебеде у самого плетня Пустобаевых. Ее привлекло чье-то счастливое воркование и поросячье повизгиванье. Она заглянула через плетень. В небольшой загороди, сонно похрюкивая, лежала на боку породистая свинья. Около ее торчащих сосков уютно копошились поросята. Осип Сергеевич сидел на корточках, нежно брал их в руки, подсовывал к свободным соскам и мурлыкал «У них же вчера свинья опоросилась!» Елена Степановна окликнула соседа:
— Шабер! А шабер! — Пустобаев не слышал, влюбленно сюсюкая возле подвалившего богатства. Она улыбнулась: — Да ты оглох, что ли, от радости?! Шабер!
Пустобаев вскочил, одернул под ремнем гимнастерку, поправил съехавшую на затылок полувоенную фуражку.
— Фу, ей право, испугала ты меня, соседка!
— Граня Буренина тебя ищет. Говорит, корова кончается.
— Хм! Нашла время!
Длинный, костлявый, как иссохшее на корню дерево, пошел он в избу за планшеткой и чемоданчиком. Планшетка его памятна забродинцам с той давней военной поры, когда Осип Сергеевич председательствовал в колхозе. Носил он тогда еще и полевой бинокль.
Теперь бинокль висит в переднем углу, рядом с иконой, а планшет, порыжелый и лоснящийся, по-прежнему сопровождает ветеринарного фельдшера Пустобаева в его поездках по фермам.
1
Стан сенокосного отряда был на краю большой поляны, примыкавшей к обрывистому берегу Урала. Целыми днями млела здесь глухая лесная тишина. Лишь издали доносились гул тракторов да торопливое верещание косилок.
В эти часы, когда все были на сенокосе, оставалась тут повариха Василиса Фокеевна, женщина не то чтобы молодая, но шибко обижавшаяся, если кто-либо ненароком назовет ее бабушкой. Едва выдавалась в ее хлопотной работе вольная минута, Фокеевна садилась к столу, подпирала кулаком полное, в волосатых родинках лицо и пела. И голос был немудрящим, а получалось хорошо. Заведет негромко, вполголоса «Уралку»:
Кто вечернею порою
За водой спешит к реке,
С распущенною косою,
С коромыслом на руке?..
Дома она не могла усидеть. Зимой ходила по гостям. Наденет с полдюжины юбок одна другой шире, низко, по самые брови повяжет косынку, сверху накинет кашемировую шаль с кистями и плывет по Забродному мелкими шажками. А с весны и до осени кашеварила там, где народу погуще.
Нынче она первой встретила приехавших на велосипедах Андрея и Горку. Оглядев их из-под припухлых век, милостиво разрешила располагаться, как дома.
— Стало быть, вступили в стремя, выросли? Ногой в стремя, да оземь темем? Так, что ль? Механик был. Сказывал про вас: с завтрева будете на косилках работать. — Помолчав, справилась: — Моего-то любезного не трафилось видеть?
— Видели, Василиса Фокеевна, вчера видели. Кланялись через дорогу.
— Чай тяжелехонек?
— Сам шел, тетя Васюня, — очень серьезно продолжал Андрей. — И сапожки у него, знаете: скрип-скрип, скрип-скрип. Наверное, не пьет уже.
— Не пьет, только за щеку льет. Я вот поеду, я его проздравлю, он у меня прохмелится. — Фокеевна крошила на столе лук, отворачивалась, как от дыма. — А Граня?
У Андрея высушило рот. Выручил Горка.
— Была у нас вечером. Такое устроила! Отец даже ужинать расхотел.
Фокеевна засмеялась, показывая густые молодые зубы.
— Она, она! Из всех детей только ее помню, как росла. Три ремня у зыбки оторвали, качали закадычную. — Накинулась на ребят: — Ну, чего стоите, рты раскрыв? Чай не праздновать приехали! Андрейка, пошел, принеси воды из-под яра. А ты, Горка, дровец набери.
Посмеиваясь, парни разбежались выполнять поварихин наказ. Весь день она не давала им присесть, и они уже не чаяли, когда отряд поужинает, чтобы после этого можно было избавиться от докучливой опеки Фокеевны.
— Неужели вы не устаете, Василиса Фокеевна? — спросил Андрей, закончив копать яму для отбросов и вытирая лоб. — Ведь с темна и дотемна на ногах! Наверное, так укачивает, что...
— Ха! Меня ни в море, ни в самолете не укачивало, а на земле и подавно. Меня, бывало, девчонкой на ледянке — ноги выставишь — крутили разов до ста, а — ни синь пороха в глазу. Операцию среднего уха собирались делать, зачем-то крутили на стуле. Доктор закружился, милосердная сестра закружилась, а мне хоть бы хны! А краковяк я, бывало, танцевала — батюшки мои!.. Завсегда я, Андрюшенька, была к работе злая, как неполивной лук, злая. Вот посмотрю, и Аграфена моя точь-в-точь такая же... Ба, опять уши растопырили! Яму-то накрыть надо! Ай догадки нет?..
Вечером, как повелось, сенокосчики расположились у костра. Кто после ужина ковырял соломинкой в зубах, кто курил самокрутку, кое-кто, вытянувшись на животе, почти совал нос в огонь, лишь бы комары не донимали.
Горка, морща тонкую кожу лба, подкидывал в костер влажноватое сено, куревом отгоняя настырное комарье.
Андрей лежал на боку, подперев голову рукой, и следил, как из-под ножа Фокеевны неистощимо вилась картофельная кожура. Так же неиссякаемо журчал поварихин казачий говорок.
— Было это как раз на вешнее заговенье, в воскресный день. Встречаю его у порога. От какого, говорю, дохода напился? Рыба-то где? Ай потерял спьяну? Глухой он, а улавливает, об чем спрашиваю. «Н-нет!» — отвечает. Я ему опять: значит, ты ее прозевал, лавку закрыли? А он: «Выз-зевал!» Потом сказал: «Я ее прожмурил!..».
Громче и охотнее всех смеялся Василь Бережко.
«Подхалимничает! — недоброжелательно посмотрел Андрей на приземистого и широкого, как копна, тракториста. — В зятья метит. Странный у Грани вкус». Отсмеявшись, Василь завистливо крутнул головой:
— От даете! Сколько слухаю вас, Василиса Фокеевна, и николы вы не повторяетесь. Вы и в девках такой интересной булы?
— Интересной, Васенька, была ли, нет ли, а уж молодая-то была.
«А правда, какая она была в молодости? — Андрей с тревогой искал в ее лице Гранины черты. — Неужели Граня такая же будет? Может, и я в старости буду кривым и глухим, как Гранин отчим? Ну и устроена жизнь!»
Тогда, в лесу, Граня ушла. Но он догнал ее. До самого поселка шли молча, враждебные друг другу. Лишь в поселке покосилась насмешливо: «Значит, взрослый? Куда думаешь с аттестатом? Не надумал? Зря? — Почему-то вздохнула и добавила: — А я сразу надумала, да черт ли толку: пятый годочек лежит мой аттестат в сундуке, нафталином пропах». Ушла непонятно грустная, непохожая на себя всегдашнюю... Слышно, с Бережко у нее любовь закрутилась. Другой бы к такой на локотках уполз, а Василь сидит себе, побаски слушает да ржет...
— Рожей не выспел, пупленыш! — честила кого-то донельзя разгневанная Фокеевна. — Мелко плаваешь — спина наружи! Ба-ау-шка! Да ежель хочешь знать...
Смех вспугнул какую-то птицу, заночевавшую на вершине вяза, и долго еще гулкими обручами перекатывался по реке.
— Что? Ай не так сказала? — хитро прищурилась повариха.
Смеялись косари. Окунаясь, чмокало корневище обвалившегося в реку осокоря, будто слушать Василису Фокеевну для него — одно удовольствие. Но Андрей заметил, что сама Фокеевна как-то вдруг переменилась, в скобку сжала сухие губы. Так же вот внезапно замолкать и меняться в лице могла Граня.