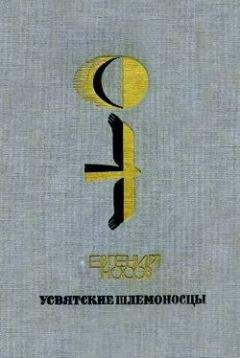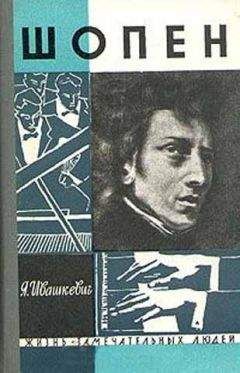– Ну, уел, уел он тебя, Степка! – засмеялись фронтовики. – Ничего не скажешь!
– Да я про что? – тоже рассмеялся Холодов. – Мне разве деньги нужны, чудак человек. Трешка – какая пожива? А когда прежде их платили, вроде бы пустяк, табашные деньги, а – приятно! Вот я про что. Идешь, книжечку предъявляешь – тебе очередь уступают, глядят с уважением.
– Тебе и сейчас уступают, вон рукав пустой.
– Да не дюже-то раздвигаются.
– Э-э, мужички! – воскликнул дед Василий. – Какой разговор завели! Скажи спасибо, живы остались. Сам бы от себя платил!
К фронтовикам подошел председатель здешнего колхоза Иван Кузьмич Селиванов. Грузный, страдающий одышкой, он был тоже увешан орденами, тесно лепившимися вдоль обоих пиджачных бортов. И даже покачивался на голубой ленте какой-то инодержавный «лев», который за неимением места расположился почти на самом животе. Казалось, Селиванов потому так тяжко дышал и отдувался, что непривычно нагрузил себя сразу такой уймой регалий.
– Привет, гвардия! – сипло пробасил он, расплываясь в улыбке своим добрым простоватым лицом, и сам тоже, как и все прежде, вскользь, ревниво пробежал живыми серенькими глазами по наградам собравшихся.
Дед Василий плутовато сощурился:
– Упрел, однако, Кузьмич! шутка ли, такой иконостас притащил. Никаких грудей не хватит – наедай не наедай.
В другом месте так лихо и не посмел бы созоровать дедко, но тут, в кругу бывалых окопников, действовал свой закон братства, отстранявший всякие чины, и прежний ездовой безо всякого подкузьмил прежнего командира полка, а ныне – своего председателя. Да и все знали: Кузьмич – мужик свой, не чиновный, с ним можно. Если к месту, конечно.
Иван Кузьмич тоже не остался в долгу перед дедом Василием:
– Свои-то ты, поди, гущей начистил? Сверкают – с того конца поля видать.
– Не-е, Кузьмич, не угадал! – зареготал дед Василий. – Это не я. Это мне баба надраила.
Фронтовики засмеялись.
– Ей-бо, не брешу. Я хотел было так иттить, а она: нехорошо, говорит, с такими нечищеными на народ.
– Ай да молодец баба! – весело похвалил Иван Кузьмич. – Вот кому ордена носить – женщинам нашим!
– Это точно! Ежели по совести, то в самый раз пополам поделить. Одну половину нам, а другую им. Нам за то, что воевали, а им за то, что тыловали. А то ничуть не слаще войны.
– Значит, это старуха тебе так наблистила?
– Она, она! Да и как не наблистить? – развел руками дед Василий. – Ну, которые там медные, ладно. А то ить из серебра, а вот, скажи ж ты, тоже портятся, тускнеют. Я их и в сухое место прятал, на комель, – все едино гаснут. Нету того блеску, как было.
– Время, отец, время работает, – сказал Иван Кузьмич.
– Что там медали! Мы и сами, гляди, как потускнели, поистратились, – заметил Федор. – У всех вон седина из-под шапок.
– А у меня дак и вовсе волос упал. – Дед Василий сдернул фуражку и засмеялся: – Во, как коленка! А в Будапешт этаким молодцом вступал.
– Ну, ты, Василий Михайлович, и теперь еще герой. – Иван Кузьмич потрепал старика по плечу.
– А я и не ропщу! – готовно кивнул дед Василий. – Кукарекаю помаленьку. А то вон которых и совсем уже нет.
– Ох, и верно, мужики, бежит время! – Тихон Аляпин досадливо пересунул на седой голове путейскую фуражку с молотками. – Соберемся когда вот так, солдаты, глядь – того нет, этот не пришел… Совсем мало нас остается…
– А что ж ты хотел, – сказал Федор. – Ты думал, уцелел, дак война тебя минула. Не-е! Сидит она у всех у нас. Грызет, подтачивает. Кого раны доканывают, кого простудные болезни, а кто животом мается. Даром не прошли эти четыре года…
Дядя Саша достал дюралевый портсигар и протянул его в круг на ладони. Все молча потянулись за сигаретами.
Наконец подкатил райисполкомовский «газик», остановился возле белой «Волги». Придерживая шляпу, из машины вышел сам Засекин. Он тоже был в свежей сорочке с галстуком, но в яловых сапогах, изрядно забрызганных грязью. Видно, по пути заезжал куда-то еще, а потому немного припозднился. Вслед за ним выбрался райвоенком, пожилой сухощавый капитан с плащ-палаткой, притороченной на ремешках. Третьим был инструктор ДОСААФ Бадейко. Засекин торопливо пожал руки стоявшим у белой «Волги» и, озабоченно взглянув на часы, сразу же направился к обелиску, собирая за собой, будто невидимым бреднем, быстро густеющую толпу. Молодцеватый инструктор в ухоженных троекуровских баках, с фотоаппаратом через плечо, забегая вперед, громко оповещал:
– Товарищи, товарищи! Давайте подходите ближе! Давайте, давайте! Женщины у скирды, вас тоже касается!
Пока вокруг обелиска собирались люди, теснясь плотным кольцом, дядя Саша подошел к ребятам, уже разобравшим инструменты. Он и сам вынул из кармана свою маленькую трубочку, похожую на пионерский рожок, снял с нее чехол и по привычке несильно, беззвучно подул в мундштук и попробовал клапаны. Музыканты, поглядывая на небо, переминались, пританцовывали в своих легких модных плащах. И действительно, было холодновато. Откуда-то набегали низкие серые тучи. Они накрыли солнце, и стало ветрено, неуютно на открытом и голом угоре.
– Значит, так… – Дядя Саша оглядел строй оркестрантов. – Как только снимут брезент – сразу Гимн. Прошу никуда не отлучаться.
– Да не волнуйся, шеф. – Пашка разглядывал себя в сверкающую тарелку, как в зеркало. – Слабаем, что надо.
– Вы мне бросьте это «слабаем»! – Дядя Саша нахмурился. – Ты, Павел, тарелками не очень-то звякай. Только тебя и слышишь.
– А что? Я все по уму. И в нотах указано: форте.
– «Форте, форте»… Слушать надо. Чувствовать надо мелодию. И весь оркестр. А ты лупишь, как сторож в рельсу.
Пашка обиделся:
– Зря придираешься, старшой.
Тем временем народ вокруг ожидающе притих, и военком, выйдя к подножию памятника, открыл митинг. В районном военкомате он служил уже давно, и знали его многие, особенно фронтовики. С разрубленной осколком нижней челюстью, которая срослась не совсем ладно, искривив ему рот, он выглядел угрюмовато, но был тихим, непритязательным человеком. Еще в самом начале войны, во время эвакуации Шепетовского укрепрайона, он потерял семью – жену и двух девочек – и с тех пор жил бобылем со старенькой матерью, и на его окнах всегда можно было видеть клетки с чижами и серенькими чечетками.
– Друзья мои! – заговорил он, наклонив голову и по привычке поглаживая, застя уродливый шрам ладонью. – Матери и отцы… братья и сестры… дети и внуки! Мы все собрались тут, чтобы почтить память… кто отдал свои жизни…
Быть может, под гулкими сводами зала голос оратора, усиленный микрофонами, и звучал бы как подобает. Но здесь, среди пустынного поля, под необозримым осенним небом, слова показались далекими и бессильными. Толпа задвигалась, еще больше уплотняясь, и детишки, прошмыгивая меж ногами у взрослых, начали пробираться в передние ряды, где послышнее. А Пашка все гудел обиженно:
– Вечно на меня бочку катит. Вон Курочкин ноты прочитать до дела не может, так ему ничего…
– Помолчи, пожалуйста! – досадливо обернулся дядя Саша, пытаясь сосредоточиться, уловить речь военкома.
Налетавший ветер принимался трепать угол брезента на обелиске, порой заглушая речь хлопками, и тогда лишь обрывки фраз долетали до дяди Саши:
– …дожди смыли кровь павших с этих высот, вы собственными руками заровняли воронки и окопы, засеяли поля хлебом, и мирное солнце светит теперь над вами… Но ничем нельзя смыть нашу скорбь, заровнять наши душевные раны, притупить нашу память…
Военком, забывшись, убрал руку от подбородка, взмахнул ею, рассекая воздух, и стало видно, как нервно напряглась какая-то жила под его щекой, как потянула она всю правую сторону лица книзу.
– Вот возьму и уйду! – Пашка в самом деле отошел в сторону.
– Павел, – прошептал дядя Саша гневно, – встань в строй.
Пашка молчал, упрямо глядя на свои новые штиблеты. Кто-то обернулся в их сторону.
– Встань, говорю! – так же шепотом повторил старшой.
Парень, кисло глядя в поле, нехотя подчинился. И тут, перебивая военкома, раздался возмущенный голос инструктора Бадейко:
– В задних рядах! Прекратите базар, честное слово. Людей надо уважать, в конце-то концов.
Военком вскоре закончил свое выступление и отошел в сторону. Бадейко, пошептавшись с Засекиным, принялся разматывать веревку, витками охватывающую покрывало. Освободившийся брезент еще громче заколотился, потом взметнулся пузырем. Бадейко держал его неловко, беспомощно. Несколько человек подбежало помочь. И когда брезент был усмирен и стащен, перед всеми предстал серый цементный конус, местами еще не просохший, со столбцом фамилий на металлической желтой табличке:
Агапов Д. М., рядовойАникин С. К., рядовойБорвенков В. В., мл. сержантВяткин К. Д., рядовойГаркуша И. С., рядовойЗахорьян А. Ш., сержантИванов И. П., сержантМахов А. Я., старшина
Это были имена людей, никому здесь не известных и уже давно не существующих, заглянувших в сегодняшний мир спустя много лет в виде знаков алфавита.