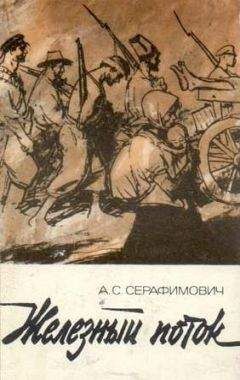Да разве саботажников убедишь!
В прыгающей от грохота и тряски темноте с мертвеющими по углам пятнами прокаленного мороза – голос:
– Да ну их к черту! Бери, товарищи, руби!..
Засветили спичку и при неверном, мигающем свете выдернули из нар доску и шашкой стали рубить ее на куски.
Слышен был сквозь гул стук шашек и в других вагонах. В сущности, рубили вагоны и принадлежности к ним, достояние Российской социалистической республики. Но вина падала не на красноармейцев, издрогших, измученных невыносимым холодом и неуютом, а на тех подлых саботажников, которые загоняли людей в скотские вагоны, не обогрев их предварительно, не вычистив.
О чем думал начальник станции Бугульмы?
Комендант?
Начальник передвижения войск?
Меньше всего – о своей обязанности дать людям минимум удобства.
Сухие доски разом и ярко загорелись. В вагоне потеплело. Навоз под ногами размяк, и стало пахнуть конюшней.
С оттаивающего потолка часто капало на голову, на лицо, на руки.
Лица, на секунду выхватываемые из темноты красным колеблющимся отблеском, потеплели и оживились.
В непрерывный гул качающегося вагона влился оживленный говор. И в этом говоре отвратительно и подло резали ухо грязные и мерзкие ругательства. Люди дышали ими, не думая о них. Просто это был способ образно выражать свои мысли.
И отвратительно и жалко.
Кто ж виноват?
Когда вспыхивающее пламя бросало красный отсвет, я всматривался: какие все милые, молодые лица! Ведь не хулиганы же. Ведь не циники же изъеденные, для которых весь свет залит навозной жижей…
Виноваты, кто не заполнил пустоту этих людей, кладущих свою жизнь.
Виноваты, кто не принес им творений искусства. Кто не дает им вовремя и в должном количестве газет.
Кто не дает им художественной литературы, когда так мучительно хочется отвести душу.
Кто не приносит им музыки, пения, кто не дает им возможности письмом отвести душу.
Виноваты все, кто не хочет или не умеет сделать жизнь их разумной, наполненной красотой и творчеством.
Я примостился на нарах, на которых вповалку лежали красноармейцы, сунув под голову вещевые мешки.
Спереди от раскалившейся докрасна печки нестерпимо несло жаром; сзади из сквозивших щелей вагона нестерпимо несло морозным холодом. Я всячески изворачивался, стараясь найти среднее положение, чтобы не так жгло и морозило.
Внизу, вокруг печки – распаренные лица, скинутые шинели. Семнадцатилетний мальчик в папахе, с остронаглым лицом, пересыпая руганью, рассказывает:
– Надоело служить, вот и уехал. Жалко, леворверт комендант отобрал, а то бы здорово продал на толкучке… А у нас что было в Ярославле, это как белогвардейцев побили… Стали мы лазить по магазинам. Кто чего успел – в карманы. Ей-богу! На лошадях мы. Двенадцать человек нас. Хотели в банке поживиться, только с лошадей слезли, а нас, голубчиков, и накрыли. Восьмерых тут же расстреляли, а меня да троих комендант взял. Ну, отпорол нагайкой, пустил, щенком обозвал. А я думал – расстреляют…
Он рассказывал о своих приключениях весело и задорно, на каждом шагу пересыпая мерзкой руганью. Ждал одобрительного хохота от сидевшей вокруг раскрасневшейся печки компании.
Красноармейцы, тоже пересыпая руганью, к его удивлению заговорили:
– Да ты в каком полку служил?
– В Казанском.
– Служил?! Мародерничал!
– Такие Красную Армию пакостят!
– Один заведется, а всех конфузит.
– Ему на Горячее поле в Питере или на Хитров рынок в Москве.
– К стенке его! Не гадь!..
– Кидайте его, ребята, из вагона на рельсы!
Мальчишка стушевался…
Гремит вагон, качается. Печка темнеет, и тогда во мраке наливается холод, белеющий по углам.
Дежурные начинают кидать дрова.
Печка больше и больше краснеет. Рождаются тени, снуют и судорожно двигаются по стенам, по лицам.
Но иногда тени лежат неподвижно долго-долго, и не слышно гула и качающегося скрипа и грохота, – это мы стоим на станции. Стоим час, стоим два, три, четыре…
Кто-нибудь отодвинет дверь. В пролет глянет синяя морозная ночь. Искрится снег, звездное небо.
Сердитый голос:
– Затворяй, слышь… Холод!
Дверь, скрежеща, задвинется, поглотив прекрасную синюю ночь, и опять неподвижно изломанные по стенам тени, храп и густой, тяжелый махорочный дым.
– Ну, какого черта мы стоим?!
Морозно проскрипят снаружи шаги – и опять молчание. Тоска.
От Бугульмы до Симбирска триста двадцать пять верст. Поезд в пути между станциями делает верст двадцать пять. Значит, сплошного пробега – тринадцать часов. Кладя на остановки даже по полчаса, что слишком много, получим пять часов на простой. Итого – восемнадцать часов. А мы вот уже вторые сутки едем, и конца-края не видно нашей езды.
На станции стоим шесть часов.
Зачем?
А ни за чем. Так!
– Да что за дьявол! Что мы стоим?..
Молчаливому долготерпению вдруг приходит конец.
С руганью подымаются красноармейцы, со скрипом отодвигают дверь, и вываливаются в морозную ночь человек десять, пристегивая на ходу револьверы. Гурьбой идут к машинисту и приступают.
– Ты чего же, кобелевый сын, так везешь? Этак будешь везть, все стариками сделаемся, покеда доедем. Что вы, шутки, что ли, шутить с нами? Каждый за делом, каждый в командировку едет…
– Я – за снарядами.
– Я – в санитарный отдел.
– Я – в отдел снабжения.
– Ну, вот! И каждому срок дан – кому три дня, кому четыре, много-много неделя, а вы, ишаки, трое суток нас везть будете триста верст! Товарищи, кидайте его, азията, в топку! Становись сами, которые могут, на паровоз! Сами доведем поезд!
– Есть! Я ездил помощником.
– Да вы чего, товарищи, на меня-то наседаете? Мне дадут путевую – еду, а не дадут приказу, – хоть год будем стоять – не поеду. Не от меня зависит. Артельщик тут везет деньги, раздает по станциям, он и задерживает.
Бурным потоком кинулись красноармейцы разыскивать артетьщика. В вагонах со скрипом отворялись двери, и выскакивали на мороз красноармейцы. Собралась их внушительная толпа.
Разыскали артельщика. У него в хвосте поезда был прицеплен свой вагон.
Артельщик устроил ужин и чаепитие и изволил кушать с железнодорожниками.
Он нагло заявил:
– Не ваше дело вмешиваться в железнодорожные порядки.
– Ах ты, материн сын! Ребята, выворачивай его наизнанку!
Артельщик стал сдавать и сказал:
– Товарищи, я ни при чем, – разгрузка держала.
– Брешешь! Мы все время смотрели, не было разгрузки. Да ежели бы и была, двадцать минут на нее, от силы полчаса, а мы шесть стоим.
– Паровоз воду брал…
– Это на каждой станции брал воду? Обопьешься.
– Опять же дрова паровоз брал…
– Бреши – да умеючи. Это как на каждой станции по три, по шесть часов будет брать дрова, весь состав загрузишь… Да что с ним разговаривать, так и вон как! Ломается, как коза на веревке… Кидай его на рельсы! Отцепляй его вагон, без него поедем!
Толпа стиснула. Артельщик струсил.
– Товарищи, ведь я по долгу службы… По линии три месяца не получали жалованья, вот и развожу.
– А-а, собака! Забрехала… Почему срочные дела Красной Армии должны из-за вас задерживаться? Ведь вот я задержусь на два, на три лишних дня, не привезу пулеметных лент, а там тысячи наших могут погибнуть из-за этой задержки. А ты бы взял паровоз да отдельный вагон и развез, армию не подводил бы. А то ужинать сел, а мы и стоим по шесть часов.
– И какая стерва его родила?!
– Волоки его, ребята!..
Кругом озлобленные красные лица, сверкают глаза.
– Товарищи, не буду задерживать, не буду больше выдавать… Ей-богу, сейчас поедем.
Поезд тронулся и несколько станций действительно шел без задержек. В вагонах, озаренных раскрасневшимися печками, полных всюду сновавших теней, было шумно и весело.
– Ловко!
– Выздоровел!
В Мелекесе часов в десять остановились. Осталось до Симбирска восемьдесят шесть верст. Часов за пять Доедем.
– Тут пойдет хорошо, тут нормально ходит, – говорили.
Стоим час, два, три, четыре, пять… Черный неподвижный поезд снова наливается тоской. Все тянется бесконечно застывшая ночь над примолкшей станцией. В вагонах тяжело и безнадежно спят, стоят или понуро сидят вокруг печки.
К коменданту станции идет один из едущих в поезде.
– Товарищ комендант, почему нас здесь так долго держат? Ведь все сплошь едут командированные, которым дорога каждая минута.
«Товарищ» комендант грубо поворачивается спиной, он даже разговаривать не желает.
Тогда обратившийся к нему вынимает и подает мандат от Революционного военного совета армии с очень широкими полномочиями.
Комендант сразу становится бархатным.