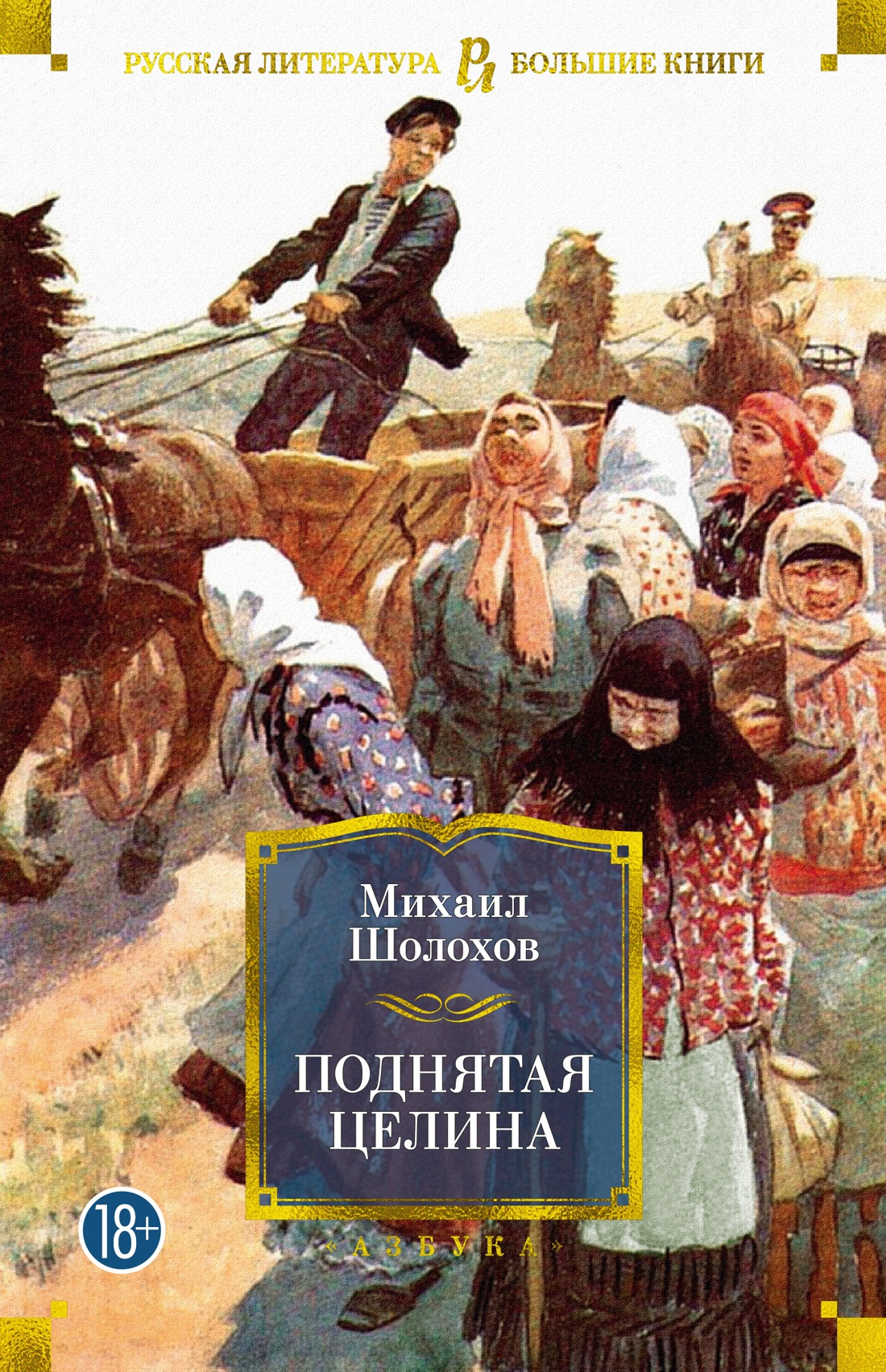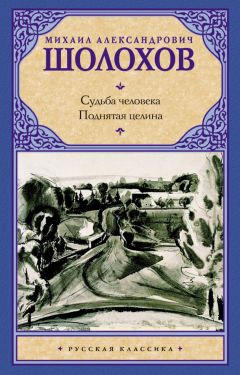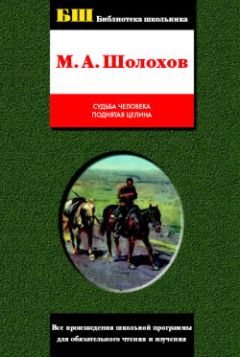даже не мерзнет, а гибнет через то, что голая земля, на какой нету снежной одежины, лопается и вместе с собой рвет коренья у колоса.
— А, это интересно! Я не слышал про это.
— И верно он пишет. Согласуюсь с ним. Даже сам для проверки спытывал. Вырою и гляжу: махонькие и тонкие, как волоски, присоски на корню, самое какими проращенное зерно из земли черную кровь тянет, кормится через какие, — лопнутые, порватые. Нечем кормиться зерну, оно и погибнет. Человеку жилы перережь — не будет же он на свете жить? Так и зерно.
— Да, Яков Лукич, это ты фактически говоришь. Надо снег держать. Ты мне дай эти агрономические журналы почитать.
«Тебе не пригодится! Не успеешь. Короткая тебе мера отмерена в жизни!» — улыбался Половцев.
— Или вот как на зяби снег держать? Щиты надо. Я уж и щит такой придумал из хвороста… с ярами надо воевать, они у нас земли отымают каждый год больше тыщи десятин.
— Все это верно. Ты вот скажи, как нам лучше помещения для скота утеплить. Чтобы и дешево и сердито получилось, а?
— Базы-то? Это мы все исделаем! Баб надо заставить плетни обмазать — это раз. А нет, так можно промеж двух плетнев сухого помету насыпать…
— Да-а-а… А как насчет протравки?
Половцев хотел устроиться на кадушке половчее, но крышка скользнула из-под него, упала с грохотом. Половцев скрипнул зубами, услышав, как Давыдов спросил:
— Что это упало там?
— Должно, кот что-нибудь свалил. Мы там зимой не живем, топки много уходит… Да вот хочу вам показать породную коноплю. Выписанная. Она у нас в энтой зале зимует. Проходите.
Половцев прыжком метнулся к выходу в коридор, дверь, заблаговременно смазанная гусиным жиром, не скрипнула, бесшумно выпустила его…
Давыдов вышел от Якова Лукича с пачкой журналов под мышкой, довольный результатами посещения и еще более убежденный в полезности Островнова. «Вот с такими бы можно в год перевернуть деревню! Умный мужик, дьявол, начитанный. А как он знает хозяйство и землю! Вот это квалификация! Не понимаю, почему Макар на него косится. Факт, что он принесет колхозу огромную пользу!» — думал он, шагая в сельсовет.
С легкой руки Якова Лукича каждую ночь стали резать в Гремячем скот. Чуть стемнеет, и уже слышно, как где-нибудь приглушенно и коротко заблеет овца, предсмертным визгом просверлит тишину свинья или мыкнет телка. Резали и вступившие в колхоз, и единоличники. Резали быков, овец, свиней, даже коров; резали то, что оставлялось на завод… В две ночи было ополовинено поголовье рогатого скота в Гремячем. По хутору собаки начали таскать кишки и требушки, мясом наполнились погреба и амбары. За два дня еповский [28] ларек распродал около двухсот пудов соли, полтора года лежавшей на складе. «Режь, теперь оно не наше!», «Режьте, все одно заберут на мясозаготовку!», «Режь, а то в колхозе мясца не придется кусануть!» — полез черный слушок. И резали. Ели невпроворот. Животами болели все, от мала до велика. В обеденное время столы в куренях ломились от вареного и жареного мяса. В обыденное время у каждого — масленый рот, всяк отрыгивает, как на поминках; и от пьяной сытости у всех посоловелые глаза.
Дед Щукарь в числе первых подвалил телку-летошницу. Вдвоем со старухой хотели подвесить ее на переруб, чтобы ловчее было свежевать; мучились долго и понапрасну (тяжела оказалась нагулявшая жиру телка!), старуха даже поясницу свихнула, поднимая задок телушки, и неделю после этого накидывала ей на спину чугунок бабка-лекарка. А дед Щукарь на следующее утро сам настряпал и, то ли от огорчения, что окалечилась старуха, то ли от великой жадности, так употребил за обедом вареной грудинки, что несколько суток после этого обеда с база не шел, мешочных штанов не застегивал и круглые сутки пропадал по великому холоду за сараем, в подсолнухах. Кто мимо Щукаревой полуразваленной хатенки ходил в те дни, видел: торчит, бывало, дедов малахай на огороде, среди подсолнечных будыльев, торчит, не шелохнется; потом и сам дед Щукарь из подсолнухов вдруг окажется, заковыляет к хате, не глядя на проулок, на ходу поддерживая руками незастегнутые штаны. Измученной походкой, еле волоча ноги, дойдет до воротцев и вдруг, будто вспомнив что-то неотложное, повернется, дробной рысью ударится опять в подсолнухи. И снова недвижно и важно торчит из будыльев дедов малахай. А мороз давит. А ветер пушит на огороде поземкой, наметая вокруг деда стоячие острокрышие сугробы…
Размётнов на вторые сутки, к вечеру, как только узнал о том, что убой скота принял массовый характер, прибежал к Давыдову.
— Сидишь?
— Читаю. — Давыдов завернул страницу небольшой желтоватой книжки, раздумчиво улыбнулся. — Вот, брат, книжка, — дух захватывает! — засмеялся, ощеряя щербатый рот, раскинув куцые сильные руки.
— Рóманы читаешь! Либо песенник какой. А в хуторе…
— Дура! Дура! Рóманы! Какие там песенники! — Давыдов, похохатывая, усадил Андрея на табурет против себя, ткнул в руки книжку. — Это же доклад Андреева на ростовском партактиве. Это, брат, десять романов стоит! Факт! Начал читать и вот шамануть забыл, зачитался. Э, черт, досадно… Теперь все, наверно, застыло. — На смугловатое лицо Давыдова пали досада и огорчение. Он встал, уныло подсмыкнул короткие штаны; сунув руки в карманы, пошел в кухню.
— Ты меня-то будешь слухать? — ожесточаясь, спросил Размётнов.
— А то как же! Конечно, буду. Сейчас.
Давыдов принес из кухни глиняную чашку с холодными щами, сел. Он сразу откусил огромный кус хлеба, прожевывая, гонял по-над розоватыми скулами желваки, молча уставился на Размётнова устало прижмуренными серыми глазами. На щах сверху застыли оранжевые блестки-круговины говяжьего жира, красным пламенем посвечивал плавающий стручок горчицы. [29]
— С мясом щи? — ехидно вопросил Андрей, указывая на чашку обкуренным пальцем.
Давыдов, давясь и напряженно улыбаясь, довольно качнул головой.
— А откуда мясцо?
— Не знаю. А что?
— А то, что половину скотины перерезали в хуторе.
— Кто? — Давыдов повертел ломоть хлеба и отодвинул его.
— Черти! — Шрам на лбу Размётнова побагровел. — Председатель колхоза! Гиганту строишь! Твои же колхозники режут, вот кто! И единоличники. Перебесились! Режут наповал все, и даже, сказать, быков режут!
— Вот у тебя привычка… орать, как на митинге… — принимаясь за щи, досадливо сказал Давыдов. — Ты мне спокойно и толком расскажи, кто режет, почему.
— А я знаю — почему?
— А ты всегда с ревом, с криком… Глаза закрыть — и вот он, родненький, семнадцатый годок.
— Небось заревешь!
Размётнов рассказал, чтó знал, о начавшемся убое скота. Под конец Давыдов ел, почти не прожевывая, шутливость как рукой с него сняло, около