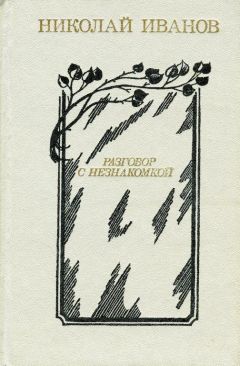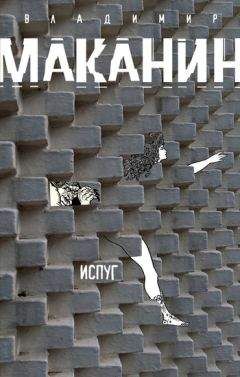Бородач, что привел меня в комнату, принял у него одну из бутылок, наполнил водкой граненую стопку и, протянув ее мне, сказал:
— Опоздали вы, молодой человек… на девять дней.
Водка, растекаясь по пальцам, холодила кожу. Дядя Федя принес из кухни колченогую табуретку и, примостившись на ней у торца стола, подвинул мне свой стул. Вместе со всеми выпил и я.
— А вы, простите, к го будете ему? — спросил меня лысый старичок.
— Я сверху… — ответил я, машинально показывая на потолок. — С пятого этажа то есть.
Старичок кивнул и зашептался с соседом, низко склонившись над столом. Выпил я и еще одну стопку, налитую мне дядей Федей. Издалека откуда-то, из-за стены, может быть, из-за приоткрытого окна донеслась мелодия старого полузабытого вальса. Дядя Федя, ерзая на неустойчивой табуретке, старался придвинуться ко мне ближе и пьяненько, с придыханием, говорил мне на ухо доверительно:
— Утром в беседке… голову на стол положил, как задремал.
А с другого конца стола, точно ветром, приглушенно доносит до меня слова бородача:
— Полковым комиссаром, считай, всю войну… Тихий такой, обходительный, будто не на передовой, не на фронте. А вот когда Ясную Поляну освобождали… — Говорящий умолк на мгновение, прикуривая папиросу, и, выпустив обильную струю дыма, продолжил: — Я тогда отдельным артдивизионом командовал, истребительным. Километрах в полутора или в двух, помню, расположились от усадьбы. И только было я решил подкрепиться, котелок с горячим на пенек поставил, вызвали на КП. Гляжу, мать честная, Серафим на взмыленной кобыле. Соскочил ко мне, бледный, руки трясутся. Костя, говорит, на коленях прошу, ударь, ударь изо всего, из чего только можешь. А сам и впрямь чуть не падает на колени. Объясни толком, говорю, в чем дело, и усаживаю его рядом с котелком своим. И рассказал он мне о том, что увидел только что в усадьбе… в кабинете да спальне Толстого.
Бородач замолчал, прищурившись, точно рассматривая что-то за пеленой папиросного дыма.
— Ну а ты, Константин? — нетерпеливо спросил его лысый старик.
— Я-то?.. Что я… не могу, говорю, Серафим, без приказа. А он пуще прежнего на меня, глаза горят, не видел никогда его таким. Вон же, вон, показывает, за лесом, не ушли они еще далеко… Что же, подумал я, правда, с минуту-другую, развернул всё на лес, определил прицел и скомандовал… изо всех видов. А должен сказать, «катюши» у меня первого появились на нашем фронте…
— Ну и?.. — снова не выдержал лысый.
— Сжег я, братцы, тот лесок. А за ним — пару обозов и, думаю, до полка пехоты… Выговорешник влепили мне, конечно, за инициативу, однако ордена не лишили.
— И это наш Серафим? — вздохнул молчавший до сих пор старик с острой седой бородкой.
— М-да… Ну а потом вечером сидим мы в землянке, — продолжал бородач. — Наркомовские перед нами в кружках, все как положено. А как же, спрашиваю я, выпив свое, насчет «непротивления»-то, Серафим? Ведь старик-то там перевернулся, наверное… Ни, ни, затыкает он мне рот, молчи, молчи… святое дело.
Дядя Федя поднялся и, обойдя стол, наполнил пустую рюмку бородача. Тот поднял ее и вздохнул протяжно:
— А пел он как, братцы! Ту же «Землянку» или из «Князя Игоря»…
— Он же когда-то в театре пел… — раздумчиво проговорил лысый. — Правда, не довелось его послушать ни разу, судьба нас развела.
— Пел в оперном, — подтвердил бородач. — Но года два после войны, не больше.
Еще долго о чем-то говорили эти люди, вспоминали. А мне почему-то вспоминался зимний наш двор, ранние сумерки, желтый свет из окон старика под моим балконом. А ведь я же мог, мог постучаться к нему еще тогда, зимой. Подумать только!..
За неделю у них выработался стабильный, устоявшийся режим. Пока они не спеша допивают свой утренний кофе, в холле гостиницы уже поджидает представительница «Интуриста», их гид Татьяна Васильевна — «фрау Кляйне», как они прозвали ее меж собой за маленький рост, успев, однако, за эти дни подружиться с ней. И когда они цепочкой начинают тянуться по лестнице вниз, фрау Кляйне, поспешно загасив сигарету, поднимается из глубокого кожаного кресла навстречу и с застенчивой улыбкой приветствует их:
— Гутн морген, гутн морген, херрен![2] — Голос у нее грудной, мягкий.
Затем она объявляет программу предстоящего дня. А у подъезда стоит поданный для них просторный и комфортабельный автобус.
И вскоре перед их взором предстанут древние московские соборы, сокровищницы музеев, нарядные станции метрополитена.
Многокрасочные мелькающие видения, наслаиваясь друг на друга, сливались воедино и, точно в калейдоскопе, рассыпались вновь. Это молниеносное чередование красок, мелькание огней, золотых куполов на фоне небесной голубизны больно били по глазам, вызывая шум в ушах, кружили голову. Уже потом, ночью, лежа в постели, Фриц как бы заново прокручивал ленту впечатлений, но-своему монтировал все, что постиг, получая своеобразную, но четкую композицию. Он видел сквозь смежившиеся веки потемневшее в веках подножие Кремлевской стены, уходящей вдоль гранитной набережной вдаль, видел взметнувшиеся ввысь пирамиды высотных домов, распахнутую, в роскошном переплете, книгу здания СЭВ, Триумфальную арку. Затем лестница московской подземки плавно и бережно уносила его вниз. Вот промелькнула уютная станция, украшенная яркой витиеватой мозаикой. Фриц попытался вспомнить название станции и не смог. А поезд нес его дальше — мимо торжественных, богато отделанных малахитом, агатом и яшмой, станций, пока не вырвался наружу, на простор, не понесся, паря над гладью просыпающейся реки. На какое-то мгновение все затуманилось, потом вовсе исчезло, растворившись в дымке. И вот уже перед взором рублевские иконы, фрески, суровые лики русских царей и серые пронзительные глаза славянок в залах картинной галереи.
Засыпая, Фриц Бауэр всякий раз думал о том, что время пребывания их группы в СССР ограничено, и давал себе слово расспросить утром фрау Кляйне обо всем, что его волновало, ради чего он ехал сюда из далекого Гамбурга.
Нет, он не решился обратиться к ней и в это, предпоследнее утро, хотя и поспешил допить кофе раньше других, чтобы спуститься в холл первым.
С трудом сдерживая волнение, он торопится по широкой мраморной лестнице вниз, однако, бережно переставляя протез правой ноги, ловко, почти неуловимо опираясь на изящную старинную трость, скрывая хромоту.
Девушку он застает врасплох. Фрау Кляйне, повернувшись к окну, держит перед собой карманное зеркальце и карандашом-коротышкой наносит возле глаз какие-то, видно, очень необходимые ей штрихи. Увидев в зеркальце за своей спиной подошедшего, она резко поворачивается, засмущавшись, щелкает запором миниатюрной сумочки.
— О… доброе утро. Вам что-нибудь нужно?
— Я… мне… нет-нет, благодарю вас, нет. — Фриц растерялся, вероятно, не меньше девушки. — Доброе утро, хорошее утро сегодня. — Достав сигару, он отошел к яркой витрине киоска сувениров.
Смеркалось. На площади зажглись первые фонари. Татьяна Васильевна подождала, пока группа разместится в салоне «Икаруса», и захлопнула дверцу, Автобус тронулся. «Ну вот и последний объект — ВДНХ — позади, — подумала она, устраиваясь на крайнем сиденье. — Остался один день работы с группой. Интересный все-таки, однако, народ немцы — дотошный, любознательный. Неодинаковый, однако… В делегации в основном металлисты, заводская интеллигенция. Трое коммунистов, между прочим… А этот, Бауэр, кажется, его фамилия… Что он так пристально всегда смотрит? Словно сказать что хочет. Интересный мужчина, хотя и в годах. За пятьдесят уже, пожалуй, прихрамывает. Вот и сейчас…» Она увидела, как с соседнего сиденья поднялся высокий мужчина с обильной проседью на висках, извинившись, попросил разрешения сесть рядом.
— Вы не могли бы мне помочь, фрау…
— Пожалуйста, я вас слушаю.
— Далеко ли от Москвы деревня или, как это у вас называется, селение, село… Сосновка?..
— Сосновка? — она на минуту задумалась. — Что-то очень знакомое. Но сразу, право, затрудняюсь ответить. Московская область большая. Давайте договоримся так: я узнаю и скажу вам позднее — завтра.
— О, да, спасибо, спасибо.
— У вас там знакомые, друзья?
Мужчина замялся.
— В общем, да…
Видя его смущенность, она пожалела о своем вопросе.
Автобус, миновав Большой Каменный мост, свернул к гостинице.
Вечером ему все-таки удалось остаться в номере одному. Спутники настойчиво пытались его утянуть в ресторан русской кухни. Он не пошел и заказал ужин в номер, попросив к ужину бокал русской водки.
И, отпив два глотка, обжегся, потянулся к сифону с водой. Потом достал сигару.
«Ну, вот и подошел к концу визит в эту страну, — подумал Фриц, глубоко затягиваясь дымом. — Второй визит…» Тридцать с лишним лет он думал о нем. И его, как преступника на место преступления, что-то манило сюда все эти годы. В деревню Сосновку, куда он теперь уже не попадет, поскольку нет больше времени. Да он и не представляет, как туда можно попасть — это же не прогулка за два квартала. А хотел. Страстно, болезненно стремился много лет. Изучал русско-немецкие словари и разговорники перед поездкой за границу.