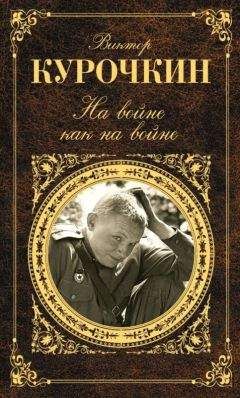Из ответчика Семенова выжать ничего невозможно, на все вопросы он отвечает одним словом: «Брешуть». У его ног, завернув кренделем хвост и навострив уши, лежит «удачливая добытчица» и, зевая, повизгивает. Спрашиваю охотника, правда ли, что собака — необыкновенная добытчица, он, ухмыляясь, мотает головой:
— Да брешуть, гражданин судья.
Это меня настораживает. В ответе Семенова я улавливаю недобросовестность. Мелькает мысль, что, вероятно, цыгане стащили собаку у Сухореброва и продали Семенову. Я ухватываюсь за эту версию и пытаюсь выяснить, где и когда была куплена Семеновым лайка. Но это мне оказывается не под силу. Ответчик твердит одно и то же: «Брешуть». А Сухоребров внезапно все забывает, даже кличку своей собаки.
Допрос же свидетелей окончательно все запутал. Их показания были так противоречивы и нелепы, что в этот день я сделал еще одно открытие: нигде и никто так не врет, как свидетель в суде.
А несовершеннолетний свидетель Васятка Морозов насмешил меня, растрогал, вогнал в пот. Мне представлялся Васятка озорным веснушчатым курносым мальчонкой. И я был очень удивлен, когда около стола появился белобрысый верзила в огромной лохматой шапке из заячьей шкурки.
— А шапку-то перед судом надо снимать, — заметил я.
Васька стащил с головы шапку, подержал в одной руке, потом в другой, спрятал за спину.
— Сколько же вам лет?
Васька мгновенно нахлобучил шапку на голову, но, опомнившись, опять поспешно снял ее, зажал в руках и растерянно замигал. Я повторил вопрос. Васька уронил свою шапку, торопливо схватил и спрятал за спину. Я понял, что все внимание у свидетеля сосредоточено на шапке, она мешает ему не только думать, но даже мало-мальски соображать. Я приказал Ваське положить шапку на скамейку. Но это не привело к лучшему. Без шапки он совсем растерялся и, растопырив руки, как затравленный зверек, смотрел на меня ошалелыми от страха глазами.
— Василий Морозов, сколько вам лет? — в третий раз спросил я.
Васька глотнул воздух и выпалил:
— Не знаю… — и, испугавшись своего голоса, густо покраснел и поддернул ладонью нос.
— Как же ты не знаешь, сколько тебе лет?
Теперь у Васьки покраснели шея и уши, и он, набычившись, буркнул:
— Сколько нам лет, не знаю. А мне шешнадцатый.
Я понял, что говорить с Васькой на «вы» — только зря терять время.
— Ты знаешь эту собаку?
Свидетель радостно кивнул головой.
— Чья же она?
— Дяди-Петина.
— Какого?
— Да вот этого, — и Васька ткнул пальцем в сторону Сухореброва.
— Почему ты так утверждаешь?
— Не знаю.
— Фу-ты, черт возьми, — прошептал я и почувствовал, что меня начинает трясти, но сдержал себя и спросил как можно мягче: — Вы раньше видали ее у Сухореброва?
— Видали.
— Кто «видали»?
— Да я.
— Так бы и говорил, что видал, — процедил я сквозь зубы, злясь не столько на свидетеля, сколько на себя, на свои вопросы, на свое неумение вести допрос. — Когда ты ее видел?
— Давно, — ответил Васька и от себя добавил: — Я тогда еще с ней играл.
Это проливало кое-какой свет, и я обеими руками ухватился за наивное Васькино признание.
— Как же ты с ней играл?
Васька широко и глупо заулыбался.
— Положу на спину и давай брюхо щекотать, а она визжит и кусается.
— А как звали собаку?
— Альма.
С таким же вопросом я обратился к ответчику.
— Брешет он, гражданин судья. Пальмой кличут мою собаку, — ответил Семенов.
Я опять принялся пытать Ваську:
— Как же пропала у Сухореброва собака?
— Волки сожрали.
— Откуда ты это знаешь?
— Да дядя Петя сказывал.
То, что собаку Сухореброва волки сожрали, подтвердили все свидетели.
— А может быть, ее цыгане увели, а потом продали Семенову? — осторожно спросил я Ваську.
Он охотно подтвердил мою версию, сказав, что цыгане — ужасные воры и хапают все, что попадет под руку.
Теперь оставалось выяснить, чья же, в конце концов, собака у ответчика.
— Вася, — спросил я, указывая на лайку, которая, сощурив глаза и высунув язык, лежала под лавкой, — это та собака или не та?
Васька пристально посмотрел на лайку и пожал плечами.
— Кажись, та.
— Ты говори прямо, та или не та? — строго приказал я.
Васька опять посмотрел на собаку и опустил голову.
— Не знаю.
— Почему? Ведь ты же играл с ней?
Васька молчал.
— Отвечай, какие были особые приметы у дяди-Петиной собаки?
Васька молчал, как глухонемой.
— Отвечай, что было у собаки, с которой играл, — сквозь зубы процедил я.
— Хвост, — прошептал Васька.
— Хвост есть у всех собак. Ты мне назови особые приметы, которые бы отличали один индивидуум от другого. Ну что еще было у той собаки?
Васька каким-то чужим голосом выдавил:
— Уши.
Свидетель меня не понимал. Мы разговаривали с ним на разных языках… Я почувствовал свое полное бессилие и не знал, что делать. К счастью, выручили свидетели. Они просто и легко объяснили Ваське, чего я от него добиваюсь. Он бойко, без запинки пересчитал по пальцам все приметы украденной собаки. Они совпали, как уверял Сухоребров, «тютелька в тютельку» с приметами лайки, кроме одной. Васька уверял, что на груди у той собаки Альмы была белая полоска. Семенов поднял собаку лайку за передние лапы и показал суду собачий живот с белым пятном.
— Замарал полоску, ей-богу, замарал, гражданин судья, — закричал Сухоребров, — прикажите потереть собаке грудь.
Семенов поплевал на ладонь и принялся ожесточенно тереть лайке живот. Она отчаянно царапалась, визжала и лаяла.
Сухоребров дело проиграл, но не сдавался и потребовал проделать фокус. Он отошел к двери и стал подзывать к себе собачонку. И она подошла, потерлась о его валенки и покорно уселась у ног.
— Пальма, стерва, подь сюда, — дико закричал Семенов, и собака стремглав бросилась к нему, подпрыгнув, лизнула его волосатое лицо и радостно залаяла.
«Вот дрянь», — зло подумал я и спросил Сухореброва:
— Вы охотник?
— Никак нет, гражданин судья. Мы больше рыбешкой балуемся.
— Так зачем же тебе охотничья собака? Она же тебе совершенно не нужна.
— Знамо дело, не нужна, — согласился Сухоребров.
— Зачем же тогда эту судебную канитель завел?
— Как зачем? — изумился Сухоребров. — Собака моя, ей-богу, моя. Спросите в деревне, и все скажут, моя.
Суд отказал Сухореброву, ссылаясь на то, что нет доказательств, что лайка раньше принадлежала ему. Когда я разъяснял решение суда, Сухоребров согласно кивал головой и поддакивал: «Так, так, понятно, гражданин судья». А потом спросил, как быть теперь с его собакой. Сейчас ее отдаст ему Семенов или он заберет у него с милиционером? Я сказал ему резко и категорически, что собака Семенова, а он на нее никаких прав не имеет. Сухоребров швырнул на пол шапку и пригрозил, что пойдет выше, до Москвы, а животину свою все равно отсудит, и стал настойчиво просить, пока он будет ходить по судам, отобрать у Семенова собаку и наложить на нее арест, чтоб тот ее не продал или нарочно бы не испортил. Это поставило меня в тупик. Требование Сухореброва было законно, но я не знал, как его удовлетворить. Позвонил начальнику милиции и просил помочь мне наложить на лайку арест. Начальник милиции заявил, что у него для арестованных собак нет камер и не положено, и посоветовал оставить временно собаку у хозяина под сохранную расписку до вступления решения суда в законную силу. Но Сухоребров и слушать не хотел о расписке. Этот коротконогий, с лицом скопца мужичонка, сбросив маску простачка, проявил такую энергию, упорство и знание законов, что я растерялся. Передо мной стоял хитрющий, махровый сутяга, который способен на любую пакость, и я трусливо пошел на уступки. Я предложил истцу с ответчиком найти человека, которому бы они на время доверили на сохранность собаку.
Я ушел к себе в кабинет, закрылся на ключ. Меня бил озноб, болела голова и тошнило. Подмывало желание плюнуть на все это и бежать отсюда не оглядываясь. В дверь постучали. Я открыл и опять увидел их вместе с собакой. Они ввалились в мой кабинет и заявили, что пока они будут тягаться, решили на это время оставить собаку у меня как у самого надежного в районе человека. Я не знал, что мне делать: плакать или смеяться. Впрочем, мне было все равно, и я, устало махнув рукой, согласился. И они ушли, оставив мне лайку.
— Фу, наконец-то от них отвязался, — облегченно вздохнул я и прилег на диван. Но меня поджидал новый удар. В кабинет вошла секретарь и спросила, как теперь быть с протоколом. Оказывается, она не записала ни одного слова из того, что говорилось в течение трех часов.
— Вы мне не сказали, что надо записывать. А бывший судья всегда мне говорил и допрашивал медленно, — с наивным упреком пояснила она.