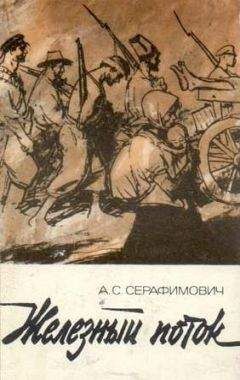— Да ведь там ждут! — с отчаянием вскрикнул Селиванов.
— Я понимаю, понимаю, не волнуйтесь. Вот что: пойдемте перекусим — чай, голодны, и ваши ребята пусть…
«Порознь допросить хочет…» — подумал Селиванов и вдруг почувствовал: неодолимо захотелось спать.
За обедом красивая степенная казачка поставила на голый стол горячую миску с подернутыми жиром щами, от которых и пар не шел, и низко поклонилась:
— Кушайте, родимые.
— Ну, ты, ведьма, пожри-ка сначала сама.
— Ды что вы, батюшка!
— Но, но!
Она перекрестилась, взяла ложку, черпнула вдруг задымившиеся щи и, дуя, стала осторожно схлебывать.
— Жри больше!.. Какую моду взяли: несколько человек отравили наших. Зверье! Подать вина…
После обеда условились: Селиванов на машине едет назад, а с ним для проверки отправляется эскадрон.
Сдержанно бежит машина, отходят в обратном порядке знакомые станицы, хутора. Сидит Селиванов с двумя кавалеристами, — у них напряженные лица и наготове револьверы. А кругом: спереди, сзади, с боков, то дружно в один раз, то вразнобой грузно подымаются и падают солдатские зады на широкие седла, и бегут под ними, мелькая копытами, кавалерийские лошади.
Сдержанно порскает машина, не спеша бежит с нею подымаемая пыль.
У сидящих в машине кавалеристов понемногу напряженность отпускает лица, и они начинают доверчиво рассказывать Селиванову под сдержанный гул неторопливо бегущей машины горестную повесть. Все ослабло, разболталось, боевые приказы не выполняются, бегут пред небольшими кучками казаков; из разлагающихся частей пачками разбегаются, куда глаза глядят.
Селиванов никнет головой.
«Если наскочим на казаков, все пропало…»
39
Ни одной звезды, и от этого мягкий бархат все глотает, — не видно ни плетней, ни улиц, ни пирамидальных тополей, ни хат, ни садов, булавочными уколами рассыпаны огоньки.
В мягкой темной громаде чуется невидимо раскинувшаяся живая громада. Не спят. То загремит задетое в темноте ведро, то загрызутся, затопают разодравшиеся кони и — «тпру-у, сто-ой, дьяволы!..» То материнский голос мерно, однотонно качает двумя нотами: а-ы-ы!.. а-ы-ы!.. а-ы-ы!..
Далекий выстрел, но знаешь — свой, дружеский. Разрастается гомон, голоса, не то ссора, не то дружеская встреча; уляжется — опять только темь.
— По-сле-едний но-неш-ни-ий… — сонно, с усталой улыбкой.
Отчего не спится?
Далекое, не то под окном, шуршанье песка, хруст колес.
— Эй, та ты ж куды? Наши вон иде стали.
А никого не видно — черный бархат.
Странно, разве не устали? Разве уж не всматриваются день и ночь в далекую черту неотрывающиеся глаза?
Как будто и этот сентябрьский бархат, и невидимые плетни, и запах кизяка — как будто свое, домашнее, родное, кровное, так долго жданное.
Завтра за станицей братская встреча с войсками главных сил. Оттого ночь полна текучего движения, звука копыт, голосов, шороха, хруста колес и улыбки, сонно засыпающей улыбки.
Полоса света из приотворенной двери узко ложится по земле, ломается через плетень, далеко убегает по вытоптанному огороду.
А в казачьей хате кипит самовар. Белеют стены. Расставлена посуда. Белый хлеб. Чистая скатерть.
Кожух без пояса на лавке; волосатая грудь видна. Посунулся плечами, повисли руки, опустилась голова. Так хозяин вернется с поля, — целый день шагал, отваливая отбеленным лемехом черные жирные пласты, и теперь удовлетворенно гудят руки, ноги, и женщина готовит ужин, и на столе еда и со стенки, слегка коптя, светит жестяная лампочка, — по-хозяйски устал, трудовой усталостью устал.
Брат возле, тоже без оружия. Беззаботно снял сапоги и сосредоточенно рассматривает совершенно развалившийся сапог. Домовитым движением жена Кожуха приподнимает крышку над самоваром, — вырывается бунтующий пар; вынимает тяжелое, горячо дымящееся полотенце, выбирает яйца, разложила на тарелке, и они кругло белеют. В углу темнеют иконы. На хозяйской половине тихо.
— Ну, садитесь!
И, точно резнуло, все трое повернули головы: в полосе света знакомо мелькнули одна, другая, третья круглые шапочки с ленточками. Матершинная ругань. Грохнули приклады.
Алексей, не теряя ни секунды (эх, револьвер куды…):
— За мной!!
Как буйвол ринулся. Приклад пришелся в плечо. Покачнулся, но удержался на ногах, и под его литым кулаком хрустнула переносица, и со стоном и остервенелой бранью рухнуло чье-то тело.
Алексей перескочил.
— За мной!!
Вырвался из света, разом окунулся в тьму и понесся саженными скачками по грядам, ломая высокие стволы подсолнечника.
По ринувшемуся за ним Кожуху без промаха пришлись приклады. Он свалился за плетнем, а кругом заветренные морские голоса:
— Ага!.. вот он, лупи!..
Непогасимым криком стояло сзади остро-пронизывающе:
— Помогите!..
Кожух удесятерил силы, избиваемый, выкатился из полосы света в темноту, вскочил и понесся за братом, на слух. А за самой спиной, наседая, катился тяжелый топот, и сквозь торопливо-хриплое дыхание:
— Не стрелять, а то сбегутся… бей прикладами!.. Вот он, гони!..
Чернее темноты вырос забор. Затрещали доски. Алексей перемахнул. Упруго, как юноша, перемахнул Кожух, и оба разом свалились в невыразимую кашу криков, ударов, ругани, прикладов, штыков, — с той стороны ждали.
— Бей ахвицерье!.. подымай на штыки!..
— Ня трожь!.. ня трожь!..
— Попались сволочи!.. Коли на месте!..
— Беспременно в штаб — там допросить… пятки поджарим…
— Бей зараз!..
— В штаб! В штаб!
Голоса Кожуха и Алексея смыло бушующе-черным водоворотом, они сами себя не слышали в буйно ворочавшемся клубе.
С непадающим криком, шумом, говором, бранью повели, сгрудившись, толкаясь в тесноте; лязг, колыхание темных штыков, матерная ругань.
«Никак выплыл?» — жадно стояло в голове Кожуха: он не отрывался от света, который лился из окон большого двухэтажного дома училища — штаб.
Вошли в полосу света — все разинули рты и вытаращили глаза.
— Та це ж батько!!
Кожух спокойно, только желваки играли:
— Шо ж вы, сбесились?!
— Та мы… та як же ж воно!.. Та це ж матросня. Приходять, сказывають, двоих ахвицерьев открыли, шпиены козацкие. Кожуха хочуть убить, треба их застукаты. Мы, кажуть, выгоним ахвицерьев, а вы караульте позадь забора. Як воны зачнуть сигать, вы им пид зад штыки, нэхай сядуть. А в штаб не треба водить, — там изменьщики есть, отпустють. А вы их тихомолком, тай годи. Ну, мы поверилы, а темь…
Кожух спокойно:
— В приклады матросню.
Солдаты бешено ринулись в разные стороны, а из темноты спокойный голос:
— Разбежались. Чи дураки — будут ждать соби смерти.
— Пойдем чай пить, — сказал Кожух брату, вытирая с разбитого лица кровь; — Поставить караул!
— Слухаем.
40
Кавказское солнце — даром, что запоздалое — горячо. Только степи прозрачны, только степи сини. Тонко блестит паутина. Тополя задумчиво стоят с редеющей листвой. Чуть тронулись желтизной сады. Белеет колокольня.
А за садом в степи бесчисленное людское море, как тогда, при начале похода, такое же необозримое людское море. Но что-то новое покрывает его. Те же бесчисленные повозки беженцев, но отчего же на лицах, как отражение, как живой отблеск, печать непотухающей уверенности?
Те же бесчисленные отрепанные, рваные, голые, босые солдатские фигуры, — но отчего, как по нитке, молчаливо вытянулись в бесконечные шеренги, и выкованы из почернелого железа исхудалые лица, стройно, как музыка, темнеют штыки?
И отчего лицом к этим шеренгам стоят такие же бесконечные ряды одетых и обутых солдатских фигур, но врозь, куда попало, покачнулись штыки, и оттиснулись на лицах растерянность и жадное ожидание?
Как тогда, необозримая громада пыли, но теперь она осела осенней отяжелелостью, и отчетливо прозрачна степь, и отчетливо видна каждая черта на лицах.
Тогда среди безграничного взбаламученного людского моря зеленел пустой курган, и чернели на нем ветряки; а теперь среди людского моря пустая полянка, и на ней темнеет повозка.
Только тогда буйное разливалось по степи человеческое море, а теперь затаилось и молча стояло в железных берегах.
Ждали. И молчаливая, без звуков, без слов, торжественная музыка разливалась над необозримой толпой в синем небе, в синей степи, в золотом зное.
Показалась небольшая толпа людей. И те, что стояли в шеренгах с железными лицами, узнали в этой подходившей кучке своих командиров, таких же исхудалых, почернелых, как и они сами. И те, что стояли рядами против них, узнали своих командиров, одетых, с здоровыми обветренными лицами, как и у них самих.
И шел среди первых Кожух, небольшого роста, почернелый до самых костей, исхудалый до самых костей, оборванный, как босяк, и на ногах шмурыгали разбитые, с разинутыми почернелыми пальцами опорки. На голове замызганно обвисла рваными полями когда-то соломенная шляпа.