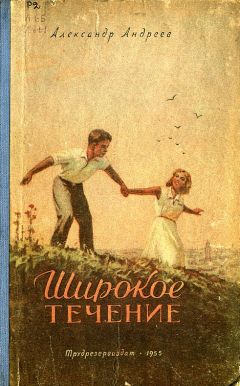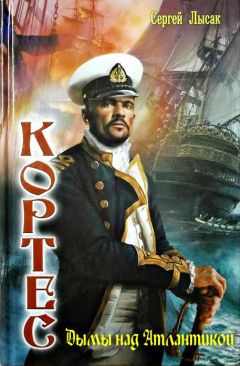— Прошу простить меня за вторжение в ваше общество: не мог усидеть в городе в такой день и вот, воспользовавшись твоим приглашением, Алексей Кузьмич, и вашим, Елизавета Дмитриевна и Татьяна Ивановна, прибыл. Не прогоните?
— Прошу вас, — пригласил Дмитрий Степанович привставая.
Усаживая Семиёнова, Алексей Кузьмич сказал запросто:
— Садись, Иван Матвеевич, будем веселиться по мере возможности…
— Очень рад с вами повидаться, — говорил Семиёнов, подавая руку Дмитрию Степановичу. — Как ваше здоровье? Здравствуйте, Мария Савельевна, вы все хмуритесь по-осеннему, все осуждаете суету сует? Здравствуйте, Елизавета Дмитриевна! Здравствуйте, Татьяна Ивановна! Володя, здравствуй! И товарищ Карнилин здесь! Вы друг без друга — ни шагу. Дай ручку, малыш, — обратился он к Игорьку. Обойдя всех, Иван Матвеевич выпрямился. — Позвольте и мне внести свой вещественный вклад в ваше торжество. — Развернув пакет, он поставил на стол бутылку вина, остальное передал старой няне Савельевне, которая унесла все на кухню и вернулась оттуда с прибором.
Алексей Кузьмич налил женщинам вина, мужчинам водки, остуженной в кадушке с холодной водой.
Принимая от Алексея Кузьмича стопку водки, Семиёнов, взглянув на Таню, спросил негромко:
— Может быть, мне вина лучше, а? — И, не получив ответа, привычным жестом взбил на затылке пышные свои волосы и сказал, наклоняясь к учителю: — Места красивее вашего я не встречал. Можно сказать, Швейцария! Взлелеянный вами сад разросся и восхваляет труд рук ваших! — Выпил, поморщился и похвалил то ли сад, то ли водку: — Великолепно, изумительно! Я иногда думаю; чего же мы боимся расстаться с горячими каменными стенами, с духотой, с бензинным перегаром! Сошел я сейчас с электрички — и точно в другом мире очутился. И голова работает по-другому, и мысли приходят свежие. — Он взглянул на Антона и сказал великодушно: — Обдумывал я ваше новое предложение, Карнилин, и сначала не увидел в нем никакого смысла. Но потом, поразмыслив поглубже, все-таки нашел там полезное зерно. — Он повернулся к Тане и прибавил: — Попросим вот Татьяну Ивановну, она вырастит из него и колос…
Антон как будто и не расслышал Ивана Матвеевича, не понял, о чем тот говорил. Он все время ревниво наблюдал за Таней: при встрече с Семиёновым она так же задумчиво и чуть печально ему улыбнулась, глаза не изменили выражения доброты и ласки, только вздохнула, будто сбросила с себя тяготившую ее тревогу и беспокойство, да, переменив положение, подперла рукой подбородок. С невольной неприязнью глядя на Семиёнова, который, не переставая жевать, смешно рассказывал о том, как долго он кружил по переулкам в поисках дачи, Антон думал, что у Семиёнова действительно лицо сатира, как однажды сказал о нем Володя Безводов. Терзала надоедливая мысль, что лицу этому чего-то недостает, как не заполнившей форму детали, и догадался — усиков, маленьких усиков под ястребиным носом; мысленно дополнив портрет этими усиками, Антон внезапно и отрывисто засмеялся.
Елизавета Дмитриевна удивленно повернулась к нему и почему-то обрадованно сказала:
— Карнилин уже опьянел!
Алексей Кузьмич возразил ей:
— Еще не было такого случая, чтобы кузнец пьянел с одной рюмки. А вот мы сейчас по одной нальем, да еще раз повторим, тогда, может быть, и появится искорка в глазу…
Солнце поднялось уже высоко и палило жарко, но кроны лип были переплетены так плотно, что лучи, как бы просеянные сквозь них, ложились бледными пятнами.
Перекатывая свое грузное тело, Савельевна совершала рейсы от кухни до беседки, беззлобно, монотонно выговаривала:
— И что это, батенька, за моду взяли — в жару водкой заливаться. И за стол сели не по-людски — завтрак прошел, обед не пришел.
— Не ворчи, Савельевна, выпьем только по одной, остальное к обеду останется, — урезонивал ее Дмитрий Степанович. — А чтобы и впредь не подвергаться твоим нападкам, обедать будем в лесу. Вот тебе!
Мысль эта как бы подогрела настроение, зарядила весельем, оживлением, и все выпили с удовольствием.
— Дедушка, и я пойду с вами в лес, — сказал Игорек, взбираясь к нему на колени. — Я возьму пистолет и винтовку!
Дмитрий Степанович вытер усы бумажной салфеткой, молодо встряхнулся, сверкнул непотухающим взглядом из-под седых бровей и произнес несколько возвышенно:
— Человек должен периодически сливаться с природой, чтобы очиститься от всякого обременяющего душу хлама — от усталости, от мелких обид и уколов самолюбия, от тщеславия и прочих ненужных человеку качеств. Взамен этого он напитает душу красотой мира, любовью к ближнему по труду, дерзкой мечтой о подвиге во имя торжества жизни!
Таня любила Дмитрия Степановича и сейчас, выслушав его, захлопала в ладоши; Елизавета Дмитриевна снисходительно и любовно улыбалась, глядя на отца; Савельевна, стоя поодаль, проговорила, будто извиняясь за него перед другими:
— Вот как напьется и начнет городить, стыдобушка слушать.
Алексей Кузьмич поддержал учителя:
— Верно, отец! Земля, небо, вода, леса и звезды — все должно быть активно включено в нашу жизнь, помогать человеку жить, творить, любить…
Володя Безводов, скептически усмехаясь, опроверг:
— Один мой приятель недавно попробовал слиться с природой, но она слишком щедро его напитала, и он бежал от нее без оглядки…
Антон покраснел и, опасаясь, что Володя наговорит лишнего, устремил на него грозный и в то же время испуганный и умоляющий взгляд. Володя замолчал, наклонился над тарелкой и, скрывая усмешку, начал усиленно действовать ножом и вилкой. Но все поняли, что речь шла об Антоне. Поймав на себе сочувствующий взгляд, Тани, он еще более смутился. На помощь ему пришел Дмитрий Степанович:
— Надо проверить, Володя, с каким чувством бежал тот человек; может быть, нет светлее этого чувства…
Иван Матвеевич, разрезая огурец и посыпая его солью, возразил шутливо:
— Какое там чувство, Дмитрий Степанович! С Черноморского побережья он не сбежал бы, А из деревни поневоле сбежишь: грязь, по ночам темень… Того, кто отведал городской жизни, в деревню не затащишь. Я обязан деревне лишь тем, что она дала мне дикую фамилию — Се-ми-ёнов! В сущности, это ведь просто Семенов, только вывернутый. Ужасно нелепые фамилии есть в деревне, очевидно от прозвищ…
Таня взглянула на Антона; он заволновался, отодвинул от себя тарелку, спрятал руки под стол, сжал их коленями.
— Грязь, темень… — повторил он и усмехнулся невесело. — Вот так рассуждающие люди иногда представляются мне теми свиньями, которые подрывают у дуба корни, не видя, что на нем растут желуди… — Он произнес это мягко, раздумчиво, даже печально; Иван Матвеевич не знал, как отнестись к этим словам, оскорбиться — глупо, придется, видно, только отшутиться… Он сделал над собой усилие и усмехнулся.
— Браво, Карнилин! Вы делаете успехи, школа рабочей молодежи пошла вам на пользу: познакомила с творчеством великого русского баснописца…
Алексей Кузьмич, как бы вспомнив что-то, воскликнул:
— Да, Антон! Что же ты не расскажешь, как там живут у вас?
Антон хмуро свел брови, ответил неохотно:
— Живут себе и живут. По-моему, неважно живут… Мы с Гришоней неделю в кузнице работали — людей там маловато, мужчин… — Ему хотелось ответить Дмитрию Степановичу. — Вот вы говорите о природе… На Волгу поезжайте, вот где природа-то! Эх, какая это река!.. Особенно по утрам; туман по ней стелется, розовый от солнца; и вечером, при луне, тоже хорошо. Выйдешь на берег, посмотришь вдоль реки, и повеет вдруг на тебя такая сила! И хочется совершить что-то необыкновенное; взял бы вот этак гору да и переставил бы с одного места на другое, честное слово! — он откашлялся и прибавил смущенно. — Только я думаю: мало любоваться красотой, надо ее и создавать. — Он с тревогой поглядел на Володю, он даже сам удивился, что произнес такую речь.
— Правильно, молодой человек! — воскликнул Дмитрий Степанович.
Таня протянула руку к букету, сорвала с цветка красный бархатный лепесток, положила его на ладонь, погладила и тихо, задумчиво произнесла:
— А мне всегда бывает грустно в лесу. — Она зажала лепесток между губами и замолчала.
Глядя на нее, Антон шептал про себя: «Милая, милая, мне тоже грустно, только не в лесу — без тебя…».
— А что до меня, так в лесу поспать любо-дорого, — вставила свое слово Савельевна, присев на краешек скамейки, и сейчас же всполошилась: — Говорили, что по одной рюмочке, а, глядите, под шумок-то по третьей потекло!..
Все засмеялись, зашумели, задвигались, заговорили вразнобой. И ветер, как бы испуганный смехом и говором людей, зашевелил листья. По столу задвигалась сетка теней; потревоженные теплым дуновением, потекли возбуждающие запахи обильно цветущей земли, внятный и терпкий аромат источали цветы на столе. Мир все полнее наливался светом и зноем, небо поднялось еще выше и сделалось прозрачнее.