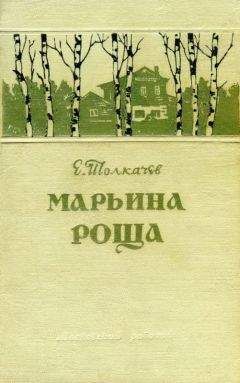Командир полка вызвал: «Почему просите о переводе?» Сережа чистосердечно объяснил, что Астраханские казармы ближе к его дому. Полковник Какульский презрительно смерил его глазами, разорвал рапорт и сухо сказал: «Никогда не пишите глупостей, прапорщик. Кругом, марш…» Из-за дурацкого упрямства полковника теперь изволь плестись из Замоскворечья… Вообще Сережина жизнь складывается исключительно неудачно. С офицерами полка у него натянутые отношения. А разве он-то виноват, что именно его, неопытного, ничем не замечательного прапорщика, кто-то, почему-то выдвинул в полковой комитет? Как ни брыкался Сережа, как ни отговаривался полным незнанием политики, не помогло. Вольноопределяющийся Штейн уговорил:
— Я тоже ничего в этом не понимаю, прапорщик, а пошел. Избранники народа, все-таки…
«Народ… Что я знаю о народе? Солдаты злые, смотрят подозрительно. Одна выгода быть в комитете — на фронт теперь не отправят. Зато с офицерством отношения испорчены. Язвят: „красный прапорщик“, „деятель“… А ведь все вместе, всем полком ходили на демонстрацию двадцать первого апреля… Впрочем, то были радужные времена. Ну, черт с ними, с офицерами, умные люди поймут, что я совсем не деятель, никакой активности не проявляю, на заседаниях молчу. А дуракам все равно ничего не докажешь… Эх, оставили бы они меня в покое со своими партиями, комитетами!…Кончилась бы эта ужасная война, снял бы я дурацкую форму и вернулся в свою лавку. Пусть безумная мать, пусть больной папаша, пусть марьинорощинская грязь и скука, только бы миновали все военные страхи», — так думал Сережа о своем положении.
— Здравия желаю, ваше благородие!
— А, Володя… Смотри, пожалуйста, вторую звездочку нацепил…
— Ну как же, сражаемся…
— В канцелярии?
— Но-но, завидуешь, брат.
— Ну что ж, и завидую…
— То-то. Как служба на пользу революции?
— Да как тебе сказать?.. Служу. Скучно.
— В какой организации состоишь?
— Как это?.. Не понимаю.
— Ну, разумеется, не в Союзе георгиевских кавалеров и не у казаков. Может быть, в Офицерской лиге? Или в Союзе армии и флота? Вот в штабе формирования добровольческой армии очень энергичные ребята. Например, Беляев. Это, я тебе скажу, орел!
— Нигде я не состою.
— Брось! Ты же офицер. Хотя мы с тобой больше не благородие. Тю-тю наше благородство, отняли у нас благородство.
— Важное дело, подумаешь!
— Вот как? Я, друг мой, тоже не дворянин, но «наше благородство» мы с тобой заработали трудом, горбом, как говорится, учебой, а у нас его из кармана вытащили. Нет, с этим примириться невозможно. Слышал, что господин военный министр на совещании сказал: «Железом и кровью!» То-то вот.
— Какой кровожадный…
— Не советую этим шутить. Чумазые все больше власть забирают; пора звать городового. И некоторым отставшим пора примкнуть, а то поздно будет… Тебе прямо? Мне направо. Будь здоров, «ваше благородие»…
«Вот еще напасть! Одни тянут туда, другие сюда, и всем нужен именно я. Сережа Павлушков… А я не хочу никуда… Хочу вот сбросить всю эту мороку и почувствовать себя свободным человеком, хозяином своих мыслей и действий. Хочу — напьюсь, хочу… Напиться я и сейчас могу. И плевать на все, на службу, на комитет, на офицеров, на папу и маму, на весь этот сумасшедший город, которому нужна молодая жизнь Сережи Павлушкова!..»
Глупейшее положение — сидеть между двух стульев. А именно в таком положении и очутился Сережа Павлушков. Отношения с офицерством полка, — а триста офицеров это большая сила! — не улучшались. Правда, заметного ухудшения тоже не было — видимо, понимали, что только роковое стечение обстоятельств швырнуло Сережу в полковой комитет и не позволяет сбежать оттуда под страхом отправки на фронт. Мелькнула было надежда, что его по добру освободят от опасного звания, когда завод Михельсона прислал своих делегатов в состав полкового комитета. Не получилось: столько же солдат — членов комитета вошли в состав завкома, и все осталось по-прежнему. Хотя Сережа и не проявлял никакой активности, но это безразлично, за все решения комитета отвечает и он. Мало того, несмотря на строжайшее запрещение Совета солдатских депутатов, большевистские агитаторы свободно проникают в казармы с молчаливого одобрения комитета. Да, все это знают и делают вид, что ничего не знают. Конечно, непосредственная угроза миновала, корниловский поход провалился, но ведь всем понятно, что Корнилов — это только неудачный эпизод в начинающейся схватке. Одолев случайного союзника, ставшего было опасным соперником. Керенский иным путем стремится к тому же: навести порядок, закончить затянувшееся недоразумение. Сережа мог бы сочувствовать этому стремлению, как и все офицерство, — не все ли равно, каким путем прийти к цели: прямым ли генеральским ударом или обходным движением так называемых социалистов? Но, черт возьми, тут есть серьезное «но». Керенский желает продолжать войну. С этим Сережа никак не согласен. Во-первых, что это за войска, которые больше митингуют, чем учатся владеть винтовкой, а во-вторых, война — это фронт, бой, гибель для несчастного Сережи Павлушкова. И те и эти хотят его гибели. Выхода нет. Положительно, жизнь не удалась!
Черт его знает, что это Беляеву взбрело назначить свидание в этом идиотском кафе? Помещение узкое, тесно, дымно, спекулянты галдят; кроме того, всей Москве известно, что среди кельнерш кафе Сиу на Кузнецком нет ни одной приличной мордочки.
Володя Жуков не грешит скромностью, но этот нахал Беляев положительно подавляет своим авторитетом. И вот по его милости Володя скучает в кафе и слушает, как волнуются спекулянты:
— Господа, господа, вы недооцениваете…
— А вы переоцениваете, вы оптимист, каких мало…
— Но позвольте, вот же черным по белому напечатано, что сказал Рябушинский на съезде промышленников… Слушайте.
— Да слышали уже, читали…
— Послушайте еще раз: «Костлявая рука голода, народная нищета схватит за горло лжедрузей народа — демократические советы и комитеты». И дальше: «Пусть развернется во всю ширь стойкая натура купеческая. Люди торговые, надо спасать землю русскую!»
— Прямо Кузьма Минин!
— Не смейтесь, пожалуйста, Пожарский недалеко… А Бубликов так прямо и сказал: «Скоро конец всему, что в народе колобродит, конец молодой гульбе». Уж он-то знает!
— Да все это известно. Вы лучше скажите, какие выводы: покупать или продавать? Этот вопрос для нас поважнее всего.
— Вы грубо упрощаете…
— Нет, это вы усложняете…
Наконец-то! С Беляевым — высокий, стройный мужчина. Недурен, очень недурен собой. Такой цвет лица бывает у скандинавов. По-видимому, швед. Интересно, что нужно шведу за его деньги?
— Знакомьтесь, — говорит Беляев. — Жуков… Смит.
— Андрей Генрихович Смит, — уточняет иностранец на чистейшем русском языке.
Значит, англичанин, а, впрочем, неважно. Сели.
— Вы живете в Марьиной роще? — спрашивает иностранец.
— Да… то есть не совсем… Я там родился…
— Так что же: живете или нет?
Володя пунцово краснеет:
— Живу.
— Очень хорошо. Господин Беляев говорил вам о деле?
— В самых общих чертах.
— Нет, позволь, — перебивает Беляев, — ты же знаешь, что господин Смит хочет повидать одного человека, который не желает или не имеет времени его навестить. Наша задача — убедить упрямца и доставить на свидание с господином Смитом.
— Именно, — подтверждает иностранец. — Вы знаете за линией дом Федотова? Это сразу за мостом. Там у Федотова мастерская, он делает чемоданы. Я говорю про старшего брата…
— Я знаю всех троих и отца.
— Прекрасно. Как вы думаете удобнее проехать к их дому, не привлекая излишнего внимания? Через мост не следует, через Останкино можно, но далеко.
— Можно через Старое шоссе, Седьмым проездом.
— Хорошо, вы знаете людей и место. А где же третий офицер, господин Беляев?
— Третьим будет шофер.
— Но мы договаривались: три офицера плюс шофер.
— Вы, кажется, сомневаетесь, дорогой господин Смит? Вы плохо знаете русских офицеров.
Иностранец тонко улыбнулся:
— О нет, я хорошо знаю русских офицеров, — встал, прикоснулся к шляпе и упругой походкой пошел к выходу.
— Кто это? — заинтересованно спросил Володя.
— Ты же слышал: Смит.
— Он такой же Смит, как я китайский богдыхан.
— А нам какое дело? Платит хорошо, пусть называется по своему вкусу. Смит, так Смит.
— Позволь, мне не все ясно. Ну, привезем мы ему человека, а обратно?
— Не наша забота. Мы договариваемся только привезти.
— Откуда везти и когда?
— Он скажет. Да ты волнуешься как будто?
— Не люблю покупать кота в мешке.
— Во-первых, покупаешь не ты, покупают тебя. А во-вторых, пари во бьен ла месс, — как говаривал мой незабвенный друг Анри Катр.