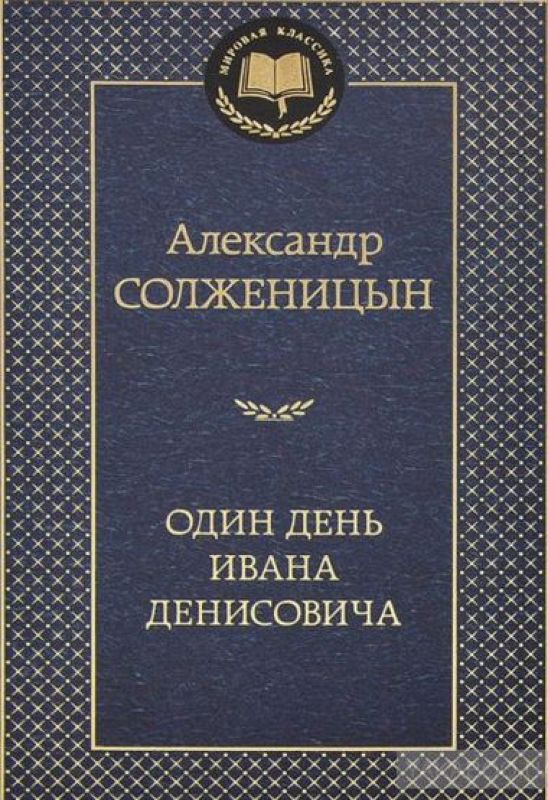матрас, набитый не стружками, а опилками, — и стал прятать ножёвку.
Видели то соседи его по верху: Алёшка-баптист, а через проход, на соседней вагонке, — два брата-эстонца. Но от них Шухов не опасался.
Прошёл по бараку Фетюков, всхлипывая. Сгорбился. У губы кровь размазана. Опять, значит, побили его там за миски. Ни на кого не глядя и слёз своих не скрывая, прошёл мимо всей бригады, залез наверх, уткнулся в матрас.
Разобраться, так жаль его. Срока ему не дожить. Не умеет он себя поставить.
Тут и кавторанг появился, весёлый, принёс в котелке чаю особой заварки. В бараке стоят две бочки с чаем, но что то за чай? Только что тёпел да подкрашен, а сам бурда, и запах у него от бочки — древесиной пропаренной и прелью. Это чай для простых работяг. Ну а Буйновский, значит, взял у Цезаря настоящего чаю горстку, бросил в котелок да сбегал в кипятильник. Довольный такой, внизу за тумбочку устраивается.
— Чуть пальцев не ожёг под струёй! — хвастает.
Там, внизу, разворачивает Цезарь бумаги лист, на него одно, другое кладёт, Шухов закрыл матрас, чтоб не видеть и не расстраиваться. А опять без Шухова у них дела не идут — поднимается Цезарь в рост в проходе, глазами как раз на Шухова и моргает:
— Денисыч! Там… Десять суток дай!
Это значит, ножичек дай им складной, маленький. И такой у Шухова есть, и тоже он его в щите держит. Если вот палец в средней косточке согнуть, так меньше того ножичек складной, а режет, мерзавец, сало в пять пальцев толщиной. Сам Шухов тот ножичек сделал, обделал и подтачивает сам.
Полез, вынул нож, дал. Цезарь кивнул и вниз скрылся.
Тоже вот и нож — заработок. За храненье его — ведь карцер. Это лишь у кого вовсе человеческой совести нет, тот может так: дай нам, мол, ножик, мы будем колбасу резать, а тебе хрен в рот.
Теперь Цезарь опять Шухову задолжал.
С хлебом и с ножами разобравшись, следующим делом вытащил Шухов кисет. Сейчас же он взял оттуда щепоть, ровную с той, что занимал, и через проход протянул эстонцу: спасибо, мол.
Эстонец губы растянул, как бы улыбнулся, соседу-брату что-то буркнул, и завернули они эту щепоть отдельно в цыгарку — попробовать, значит, что за шуховский табачок.
Да не хуже вашего, пробуйте на здоровье! Шухов бы и сам попробовал, но какими-то часами там, в нутре своём, чует, что осталось до проверки чуть-чуть. Сейчас самое время такое, что надзиратели шастают по баракам. Чтобы курить, сейчас надо в коридор выходить, а Шухову наверху, у себя на кровати, как будто теплей. В бараке ничуть не тепло, и та же обметь снежная по потолку. Ночью продрогнешь, но пока сносно кажется.
Всё это делал Шухов и хлеб начал помалу отламывать от двухсотграммовки, сам же слушал обневолю, как внизу под ним, чай пья, разговорились кавторанг с Цезарем.
— Кушайте, капитан, кушайте, не стесняйтесь! Берите вот рыбца копчёного. Колбасу берите.
— Спасибо, беру.
— Батон маслом мажьте! Настоящий московский батон!
— Ай-ай-ай, просто не верится, что где-то ещё пекут батоны. Вы знаете, такое внезапное изобилие напоминает мне один случай. Это перед ялтинским совещанием, {28} в Севастополе. Город — абсолютно голодный, а надо вести американского адмирала показывать. И вот сделали специально магазин, полный продуктов, но открыть его тогда, когда увидят нас в полквартале, чтоб не успели жители натискаться. И всё равно за одну минуту полмагазина набилось. А там — чего только нет. «Масло, кричат, смотри, масло! Белый хлеб!»
Гам стоял в половине барака от двухсот глоток, всё же Шухов различил, будто об рельс звонили. Но не слышал никто. И ещё приметил Шухов: вошёл в барак надзиратель Курносенький — совсем маленький паренёк с румяным лицом. Держал он в руках бумажку, и по этому, и по повадке видно было, что он пришёл не курильщиков ловить и не на проверку выгонять, а кого-то искал.
Курносенький сверился с бумажкой и спросил:
— Сто четвёртая где?
— Здесь, — ответили ему. А эстонцы папиросу припрятали и дым разогнали.
— А бригадир где?
— Ну? — Тюрин с койки, ноги на пол едва приспустя.
— Объяснительные записки, кому сказано, написали?
— Пишут! — уверенно ответил Тюрин.
— Сдать надо было уже.
— У меня — малограмотные, дело нелёгкое. — (Это про Цезаря он и про кавторанга. Ну и молодец бригадир, никогда за словом не запнётся.) — Ручек нет, чернила нет.
— Надо иметь.
— Отбирают!
— Ну, смотри, бригадир, много будешь говорить — и тебя посажу! — незло пообещал Курносенький. — Чтоб утром завтра до развода объяснительные были в надзирательской! И указать, что недозволенные вещи все сданы в каптёрку личных вещей. Понятно?
— Понятно.
(«Пронесло кавторанга!» — Шухов подумал. А сам кавторанг и не слышит ничего, над колбасой там заливается.)
— Теперь та-ак, — надзиратель сказал. — Ще-триста одиннадцать — есть у тебя такой?
— Надо по списку смотреть, — темнит бригадир. — Рази ж их запомнишь, номера собачьи? — (Тянет бригадир, хочет Буйновского хоть на ночь спасти, до проверки дотянуть.)
— Буйновский — есть?
— А? Я! — отозвался кавторанг из-под шуховской койки, из укрыва.
Та́к вот быстрая вошка всегда первая на гребешок попадает.
— Ты? Ну правильно, Ще-триста одиннадцать. Собирайся.
— Ку-да?
— Сам знаешь.
Только вздохнул капитан да крякнул. Должно быть, тёмной ночью в море бурное легче ему было эскадру миноносцев выводить, чем сейчас от дружеской беседы в ледяной карцер.
— Сколько суток-то? — голосом упав, спросил он.
— Десять. Ну давай, давай быстрей!
И тут же закричали дневальные:
— Проверка! Проверка! Выходи на проверку!
Это значит, надзиратель, которого прислали проверку проводить, уже в бараке.
Оглянулся капитан — бушлат брать? Так бушлат там сдерут, одну телогрейку оставят. Выходит, как есть, так и иди. Понадеялся капитан, что Волковой забудет (а Волковой никому ничего не забывает), и не приготовился, даже табачку себе в телогрейку не спрятал. А в руку брать — дело пустое, на шмоне тотчас