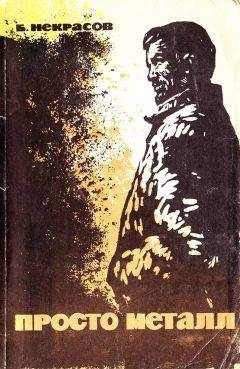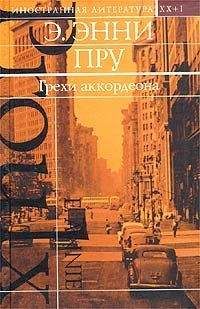— Ясно. Ничего не болит, — Кивнул фельдшер. — Чем могу?
Он выключил, приемник. Над головой его взметнулась сброшенная кем-то с себя телогрейка, и из-за широкой фельдшерской спины выглянула заспанная физиономия киномеханика, разбуженного внезапной тишиной.
— Я — за вами, — объяснил Сергей. — Срочно надо к больному. Разве этот товарищ, — он кивнул на киномеханика, — вам ничего не говорил?
— Говорил-говорил. А как же! Давно говорил — минут двадцать назад, как только я из соседней бригады вернулся. Или мне уже и чаю нельзя попить?! — снова загремел фельдшер. — Куколкин здесь, Куколкин там. Нашли еще одного севильского цирюльника!
— Поехали-поехали! — привстал киномеханик. — Я же тебе говорил, что дело срочное. Нашел время чаи гонять!.. И что о тебе горняки подумают, ежели ты на такой вызов не явишься?
— «Погибает в общем мненье, пораженный клеветой…», — проревел Куколкин; он явно находился под впечатлением только что прослушанной арии. — Долг! — ворчал он недовольно, начиная, впрочем, одеваться. — На чем приехал?
— Мы на лыжах.
— Мы, Николай Второй, император и самодержец всероссийский… Кто это — мы?
— Да двое нас. Товарищ снаружи остался.
— Полный конвой! — засмеялся киномеханик.
— Хм, на лыжах они! — продолжал ворчать Куколкин. — Нет, чтобы машину подать, вездеход или аэросани. Цивилизация! Я вот оленей только что отпустил…
— И что ты разворчался, как старая свекровь? — нетерпеливо перебил его киномеханик. — Все равно новых надо брать, твои устали.
— Вот-вот. Олени устали, а Куколкин двужильный, его сразу на всех хватит. И вообще, чего ты-то привязался? — обрушился он вдруг на киномеханика. — Мне ассистенты не нужны. Можешь оставаться здесь и готовить ужин. Попутчик нашелся!
— А может, у меня там тоже дела, — спокойно возразил киномеханик. — Может, мне культурные контакты установить надо, о шефстве договориться.
— Еще мне один культуртрегер, — буркнул недовольно фельдшер и предложил Сергею с некоторой угрозой: — Вместе к бригадиру вот пойдем его упряжку просить. Нужда-то не колхозная. Посмотрим, что ты за дипломат.
Сергей кивнул согласно и успокоил:
— Да тут недалеко, километров пять всего.
— Ну да, а то мы не знаем, где геологи работали. Сегодня не успел бы, так завтра с утра все равно сам к вам пожаловал бы. А пять километров, ты на носу заруби, это на автобусе немного или на поезде. А пешком по снегу и километр — путь-дорога. Давно на Севере?
— На Чукотке только-только.
— Оно и видно. Поработаешь здесь с мое, если не сбежишь, тогда будешь знать, почем фунт лиха.
— Говорят здесь, что сто километров — не расстояние.
— Дураки говорят! Которые не понимают, что здесь расстояние не на километры меряется.
— А на что же?
— На сноровку, на опыт, на характер. Это — с одной стороны. А с другой — на погоду. Бывает и такое, что и пятьдесят метров враз не перескочишь. Да что тебе говорить? Вырастешь — поймешь. Тут жизнь уму-разуму учит, а вы, молодежь, все норовите с кондачка ухватить. И откуда оно берется, ума не приложу! Поздно чего-то вы из коротеньких штанишек нынче вырастать стали. Все знаете, обо всем судите, — явно не в ладах с логикой басил Куколкин, пока они шагали к соседней яранге, возле которой колдовал над перевернутыми нартами бригадир оленеводов.
— Ну вот, — заметил фельдшер. — Теперь скажет, что у него нарты не в порядке. Опять уговаривай!
Когда они подошли, бригадир, средних лет чукча, лишь скользнул по Сергею быстрым взглядом и, стараясь ничем больше не выказать своего любопытства, повернулся к фельдшеру. Был бригадир широк и приземист. Впечатление это усугубляла одежда — свободная кухлянка с капюшоном, оленьи торбаса на ногах, меховые брюки. Лицо оленевода, темное, резко очерченное, казалось вырезанным из мореного дерева.
Куколкин разговаривал с бригадиром все в том же стиле, с той лишь разницей, что теперь пересыпал свою речь чукотскими словами;
— Эттык, товарищ Коравье! Здравствуй! Нужны твои олени — гынинэт чантэн, понимаешь? Опять надо ехать, черт бы их всех побрал! Куколкин здесь, Куколкин там… У горняков больной теперь. Ынкы тьылльэн — там больной, — он махнул рукой в направлении участка. — Мытлынэн километров. Вот он за мной приехал. Обратно я сегодня же — игыр обратно.
Впрочем, как выяснилось, и эта манера разговаривать не вызывалась никакой необходимостью, а была следствием давней привычки. Бригадир протянул Сергею руку, представился: — Коравье. И на чистейшем русском языке с едва приметным акцентом сказал: — Конечно, раз такое дело. Больному обязательно помочь надо. Только давай твои нарты. А оленей я сейчас и поймать и запрячь помогу.
Упряжкой управлял сам фельдшер. С ним ехал киномеханик. Сергей и Продасов скользили за ними на буксире, зацепившись лыжными палками за нарты. Весь их поход занял не больше двух часов.
Куколкин, не отвечая на приветствия, потребовал, чтобы ему сразу же показали больного, выставил из барака всех, кроме Клавы, спросив при этом:
— Сестра? Это какая же, разрешите полюбопытствовать, медицинская, двоюродная или условная?
— Родная.
— Хм, допустим. Я бы предпочел иметь дело с медицинской. Что болит? — повернулся он к Геннадию.
Генка слабо улыбнулся:
— У меня, папаша, ничего не болит, кроме всего тела.
— Хм, тело у него болит. Слыхала? — Он взял Геннадия за пульс, помолчал полминуты и аккуратно опустил его руку на одеяло. — Температуру меряли?
— Тридцать восемь и семь утром была, — ответила Клава.
— Сейчас не меньше. А ну, родственничек, присядь, покажи это твое так называемое тело. — Куколкин извлек из кармана старенький докторский стетоскоп, продул его и принялся самым тщательным образом выслушивать больного. — Дыши… Не дыши… Дыши… Не дыши… Повернись-ка сюда! Так, дыши… Не дыши…
Он отложил стетоскоп и стал выстукивать Генку. Тот поинтересовался:
— А насчет не дышать — как? Насовсем уже?
— Помалкивай! — одернул его фельдшер, — Нашел время острить!
И объяснил Клаве:
— Пневмонийка двусторонняя. В больницу этого остряка надо по всем правилам.
Клава спросила растерянно:
— А где она тут, больница?
Генка устало отмахнулся.
— Ты же знаешь, сестренка, меня эта география совсем не интересует. Перебьюсь без больницы как-нибудь.
— А я бы тебя спрашивать и не стал, будь здесь больница поблизости, — нахмурился фельдшер. — Давай, герой, готовь перечницу свою — колоть буду.
И опять к Клаве:
— Может тут у вас кто инъекции делать?
— Это уколы, да? Не знаю, вряд ли…
— Не знаю, вряд ли, — ворчал Куколкин, готовя шприц и расставляя на дощатом столе пузырьки с пенициллином. — А если бы меня поблизости не было, что тогда? Тракторную смазку не забыли небось с собой взять, гайки подкрутить каждый второй умеет, а палец товарищу перевязать — обязательно Склифосовский или Вишневский нужен…
Генка не удержался и съязвил:
— А вы, папаша, неплохо сохранились для Склифосовского.
— Поворачивайся на живот и дыши в подушку! — прикрикнул на него Куколкин, — Да трусы спусти. А ты смотри сюда, — обратился он к Клаве. — Я полдозы взял. Вторую половину попробуешь ты ввести.
— Я?! — испугалась Клава.
— Ты-ты. Или, вы думаете, я сюда переселюсь? Делать мне больше нечего! Будешь каждые четыре часа ему пенициллин вводить. Смотри, как это делается. Набираешь в шприц жидкость вот до этой отметки. Сейчас тут половина — мы с тобой для практики пополам делаем. Вот так. Теперь поднимаешь шприц иглой кверху и чуть выдавливаешь содержимое. Это чтоб воздух не попал, понятно? И вот сюда, смелее только — р-раз!
Генка вздрогнул и запротестовал:
— Э-э, нет! Такое дело не пойдет. Она же меня насмерть заколет!
— Не мешай, тебя не спрашивают! И медленно, постепенно вот так, производишь инъекцию. Потом вот так, придерживая ваткой в этом месте, выдергиваешь иглу. Только прямо по ходу, не в сторону, а то иглу сломаешь. Иголочку, перед тем как укол делать, спиртом протрешь. То, место, куда колешь, — тоже. А ну, пробуй!
— Боюсь я, — с опаской беря шприц и глядя на него, как на заряженную гранату, пробормотала Клава.
— Ну! — прикрикнул Куколкин, — Или шуточки с пневмонией шутить будем? Набирай шприц! Смелее, смелее. Вот так! Ну, а теперь — вот сюда его!
Генка напрягся весь, процедил сквозь зубы:
— Нашли тренировочную площадочку…
— Вот в таком духе, через каждые четыре часа. Это хозяйство я, значит, тебе оставляю…
Куколкин оставил Клаве пенициллин, шприц, необходимые лекарства и, пообещав наведаться через сутки, стал собираться. И, не попрощавшись, словно обиженный на что-то, ушел.
Клава виновато и робко спросила:
— Не очень больно, а?