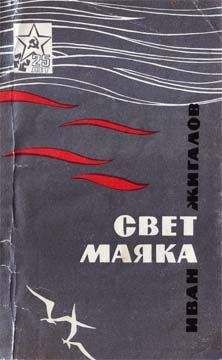— Но ведь он доставляет вам продукцию высшего качества. Или это неправда?
— Чистит он неплохо, — согласился Спиридонов. — Невредно чистит, кто же спорит? Да в чем причина? Знает, что ославим его на весь завод, дай он нам не по кондиции. Он каждый пустячок учитывает, такой человек…
По цеху шел мастер смены. Спиридонов позвал его.
— Что-то циркуляцию раствора плохо наладили, — сказал он, дружески улыбаясь. — Проверь-ка все ванны, Иван Тимофеевич. Нельзя нам возвращать очистникам слишком загрязненный раствор. — Он повернулся к ученым. — У нас так: Пономаренко чистит растворы, а мы извлекаем из них нужные металлы, при этом растворы опять загрязняются — приходится возвращать на новую очистку.
— Степан Степаныч! — взмолился мастер. — Мы ведь план гоним, конец же месяца! Очистники справятся, ни разу пока не подводили.
Спиридонов заулыбался еще радостнее и шире.
— Справятся, конечно, а ножку подставлять не будем. Ты же знаешь Пономаренко, это же человек шебутной. Ему отправь загрязнений на процент выше нормы, он месяц покоя никому не даст. Нет, уж пусть нам придется труднее, а кричать ему не дадим. Постарайся, Иван Тимофеевич, постарайся; кому-кому, а тебе стыдно жаловаться, что не умеешь.:.
Он ласково похлопал по плечу расстроенного мастера.
— Товарищи с дорожки приустали, конечно, — сказал он Черданцеву. — Ты, Аркаша, отвел бы их к Матвеевне, там и ванну приготовили. А я явлюсь вовремя, так и передай.
— Иначе говоря, часа на три запоздаете, Степан Степаныч?
— К ужину не опоздаю, не бойся. И ты чтоб с нами за стол, Аркаша. Хочешь не хочешь, а надо тебе сегодня Пономаренко побоку.
Когда они выбрались за ворота цеха, Щетинин сказал, усмехаясь:
— Удивительно они, однако, враждуют, этот Спиридонов с Пономаренко. Если такие отношения неприятельские, то что же, черт подери, у них называется дружеской помощью? Ладно, идемте втроем на нашу новую квартиру и подработаем совместно программу первоочередных дел.
Терентьев сидел на крышке пачука, под крышкой клокотала темно-красная густая жидкость. В разных чанах цвета растворов менялись в зависимости от того, каких металлов в этих чанах больше: никель окрашивая в ярко-зеленый цвет, кобальт — в вишневый, медь синила, железо делало салатным. В этом пачуке очищались соли кобальта, все остальное являлось вредной примесью, это остальное надо было превратить в липкий, дурно пахнущий осадок, обыкновенную грязь, которую потом уберут мощные вакуумные фильтры. Процесс был прост, операция известная добрую сотню лет: в раствор вливаются осадители, некоторые из лихо носящихся в нем атомов вдруг теряют свою активность, их захватывают другие атомы; вот она растет, новая молекула, к ней прилипает другая, третья, раствор подергивается словно туманом — в жидкости носится уже не невидимый ион, а непрозрачная частичка грязи, она падает на дно. Но почему атомы и ионы теряют способность легко проноситься между другими атомами в жидкости? Что выталкивает их из пор раствора, превращает из невидимых в непрозрачные, из подвижных в неподвижные? Об этом писали и до него, Терентьева, не все было темно, далеко не все, он и не собирается хвастаться. Но после его исследований многое из того, что казалось загадкой, стало азбучно просто — это он вправе сказать.
В стороне прохаживался Черданцев. Он показывал, что не хочет мешать раздумьям Терентьева. Он всматривался в пачуки, дышал жаркими испарениями растворов. Он не поворачивал головы к Терентьеву, но тот знал, что отвлекись он от мыслей, не надо даже говорить, просто знак рукой — Черданцев подойдет. Таким он держится все эти дни — молчаливым, внимательным, холодно вежливым. Он каждым словом, каждым жестом показывает, что признателен за помощь, но мог бы обойтись и сам. Он поработал в институте не напрасно; на пачуках, где внедряются его схемы, процесс идет лучше, это бесспорно. Завод может быть ему благодарен, уже и сейчас ясно, что некоторые недостатки будут устранены. Да, некоторые, но не все. Рецепт остается рецептом, схема схемой; измени условия — все рецепты и схемы летят вверх тормашками, нужно придумывать новые. Здесь требуется теория, общая для всех меняющихся условий, — на это его не хватает. Вот почему при нарушениях технологического режима процесс становится неустойчивым, вот почему сам Черданцев думает лишь об одном — никаких неполадок, никаких отклонений… Нет, надо было ехать, поездка выйдет полезной.
— Аркадий, идите сюда! — негромко позвал Терентьев.
Терентьев вырвал из тетради две страницы, начертил на одной формулы химических реакций, происходящих сейчас в пачуке, на крышке которого они сидели. Нового в этих реакциях не было ничего, каждая из них приводилась в любом учебнике химической технологии.
— Как вы знаете, формула дает не механизм процесса, а его итог, — сказал Терентьев, откладывая в сторону исписанную страницу. — Представить по результату, как в действительности шла реакция, — примерно то же, что по внешнему виду зерна определить, в какое лето оно выросло. Мы с вами этой ошибки не сделаем. Займемся механизмом процесса, а не итогами, итоги определятся сами.
Теперь он набрасывал на бумагу кирпичи, из которых строилось здание процесса, — ионы, их концентрации, их активности. Вначале это были отдельные буквы и цифры, они существовали сами по себе — независимые табличные величины. Потом очередь дошла до связей между ними, буквы и цифры переплетались, усложнялись, одни командовали, другие подчинялись — на странице появились математические формулы. Терентьев вводил Черданцева полностью в свою теорию. И это были уже не одни идеи, голые идеи здесь не годились, надо было не объяснять процессы, а воздействовать на них мощными рычагами. Вот они, эти рычаги, могучая математика расчета, не общая мысль, не частный, кустарно найденный рецепт — полная модель процесса от первой тонны раствора до последнего грамма осадка!
Терентьев протянул Черданцеву обе бумажки:
— Сделайте сами цифровой расчет динамики процесса, Аркадий, и покажите его Михаилу Денисовичу.
— Я пойду в конторку Пономаренко, — сказал Черданцев. — Если понадоблюсь, ищите меня там.
Терентьев смотрел, как он, не спеша и не оборачиваясь, обходил чаны. Он всем своим отчужденным видом показывает по-прежнему, что между ними возможна лишь служебная связь. Ни разу он но поинтересовался, как в институте, что с Ларисой, что с его диссертацией, наконец Щетинин сказал о нем: «Знает кот, чье молоко вылакал!»
Терентьев подпер рукою подбородок. Он вспоминал вчерашний разговор со Спиридоновым, тот пустился в восхваление своего любимца Аркадия. Что неожиданного в его словах? О таких биографиях часто пишут в книгах и газетных очерках, стандартный случай, если разобраться. Да, но именно в этом и было неожиданное — в стандартности случая!
Они со Щетининым раздевались. Спиридонов зевал, почесывая волосатую грудь; он сидел уже не у стола, а около двери, готовый в любую минуту, как гости нырнут под одеяла, убраться восвояси.
— Аркашка — это парень! — говорил он. — Удивительный: землю копытом роет, башкой стену прошибает. Этот не подкачает, своего добьется.
— Землю-то роет и стену башкой прошибает, — заметил Щетинин, — но бывает, что и подкачивает.
— Что вы! Вы его не знаете, а я, можно сказать, на руках вынянчил. Сколько его за уши драто и по заднице отшлепано — страх! Бедовый был хлопец, в ногах шарикоподшипники, всюду носится как угорелый, не умеет ходить, и точка! И ведь тогда же, пацаном еще, насела на него эта мысль — переделать технологию, чтоб народ не задыхался от вредных испарений. Ну, мы посмеивались: что с него возьмешь, мечтает, как все детишки, пусть мечтает, не о плохом же мечтает, не о разбоях и пьянках, мечта самая одобрительная, так меж собой положили. А он после школы в Москву, в институт цветных металлов, как раз по нашему производству, а оттуда письмо: экзамены трудные, конкурс страшенный, надежды на прием, простите за выражение, с гулькин нос. Мы тогда переживали за него, при встрече на улице, меж прочего дела, обязательно: «Не слыхал, есть что нового от Аркашки?» Ужасно боялись, что провалится. Нет, вылез и сразу бух телеграмму: «От студента Черданцева всему коллективу сердечный привет, засучиваю рукава поворачивать отсталую технологию на путь современной науки». Так прямо и отбил, сорванец, хоть бы телеграфисток постеснялся, — уши драть в столице некому! А насчет поворота где же, азы приходилось вызубривать, и поученее его люди думали, ничего не придумали. А он все свое: переверну, чтоб работа наша стала легкой и радостной, вот только институт закончу, наукой в полном объеме овладею. Каждый год приезжает к нам на каникулы, то у меня, то у Пономаренко останавливается, вредный он человек, Пономаренко, обязательно на другой год отобьет, если этот у меня; ну и конечно беготня по заводу, у пачуков часами стоит, и один разговор: переделаю, а для этого пойду в аспирантуру, здесь учеба, а не наука, настоящая наука пойдет после. Таким манером заканчивает он институт, получает диплом, ему в Москву от всего коллектива телеграфное поздравление, а сами ждем, куда же дальше, на завод или точно в науку? Многие полагали: инженер, чего еще, детские мечтаньица можно теперь и побоку. А я знал: нет, не таков наш Аркашка, он двинется завоевывать, что обещал, не мечта это уже, а прямой жизненный путь. И Пономаренко, вот же нехороший человек, обязательно при встрече сунет: я больше твоего в него верю, никогда он своих не обманет. И тут узнаем: принят Аркашка в аспирантуру, руководитель у него знаменитость, академик, и тема научной работы как раз по нашей технологии: «Разделение металлов методом осаждения основных солей из нейтральных растворов». Пономаренко всюду хвастается, что название подыскал он, только врет, он всегда врет, я от Аркашки еще десять лет назад слыхал, что одной этой темой и будет заниматься. Ну, о дальнейшем вам лучше моего известно — и как разработал он свою тему, и как доктора на защите ему хлопали, и как мы технолога заводского в Москву командировали, чтоб не дал Аркашку в обиду, если пойдут его заклевывать товарищи ученые. Да нет, все сошло отменно, один лишь завистник черного шара вкатил, слыхали, наверно?