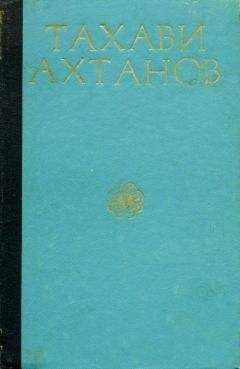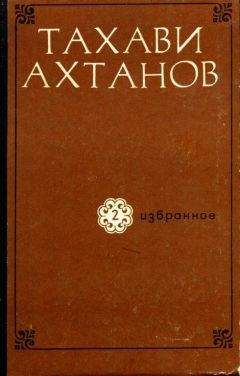— Хотя я глубоко несчастен, я радуюсь счастью других. Вы, Раушан, созданы для счастья, как птица для полета. Но молодости свойственно заблуждаться. Поверьте, у меня нет другого желания, как только помочь вам, быть вам полезным, устроить вашу судьбу. Примите это как братское участие. Только поймите верно чистоту моих побуждений, не отталкивайте моей помощи.
Уали почти с мольбой искал взгляда Раушан. Она не совсем понимала его, но ей не хотелось его обижать.
— Разве человек должен отказываться от помощи, которую предлагают бескорыстно? Не сомневайтесь во мне. — Уали глубоко вздохнул. — Я не имею права рассчитывать на большее. Но помогите мне выполнить братский долг.
Они вернулись назад, в санитарный взвод.
Коростылев проснулся, поднял голову, протер глаза и спрыгнул с повозки.
— Ложись на мое место, Раушан, — предложил он, позевывая и потягиваясь.
— Что-то не хочется спать, — ответила Раушан.
— Что это значит «не хочется»? Я пойду в штаб, разузнаю обстановку, — пробурчал Коростылев и повернулся к Уали, которому не хотелось расставаться с Раушан.
— Вам в ту сторону, лейтенант? Идемте.
А сон так и не приходил.
Осень. Синева неба выгорела. В высоте скользят темные облака с беловатыми каемками. Вот бы лечь на такое мягкое, как пушок, облачко, освещенное солнцем, и тихо плыть в бесконечность. «Что за мечтательность! — укоряет себя Раушан. — Молдабаев... Уали... все-таки интересный человек. Очень интересный. Очень, очень интересный». Если долго смотреть на эти далекие облака, то начинаешь им завидовать: они красивы, беспечальны и безмятежны. В самом деле, почему бы и Раушан не плыть вместе с ними над этой трудной жизнью людей? Уали смотрел бы на нее с земли своим умоляющим и тревожным взглядом. А почему ей не думать об Уали? Детство осталось далеко позади, она уже взрослая, а к ней еще никто не относился так серьезно и уважительно. Взрослые поглаживают ее по головке, словно кошку, и разговаривают с ней со снисходительной улыбкой.
А этот человек держится с ней, как с ровней, не важничает, не хвастает своим житейским опытом. И мужественно носит в себе свое несчастье. До чего бы интересно забраться в его душу, понять, что его мучит, и почему так случилось, и что сделать, чтобы он не мучился? И как помочь такому большому и мужественному человеку? Он предложил ей чистую, возвышенную дружбу. Ведь так?
А может быть, не так? Раушан встревожилась. Почему он часто вздыхает, глядя на нее? «Отгранить еще неокрепший талант, вырастить его...» За этим что-то кроется. «Искусство... Любовь...» Такие слова мимоходом не произносят. Ержан, например, не говорит так...
Жалко, нет Кулянды. Кулянда быстро разберется, что к чему, она очень решительная. На нее всегда можно положиться. Но в последнее время она что-то не слишком весела. Признаться, Раушан догадывается... Кулянде нравится Ержан, но она чувствует, что тот к ней равнодушен. И очень нехорошо, что Раушан, зная все это, не поддержала подругу, даже не попыталась развлечь ее, поднять настроение. «Будь на моем месте Кулянда, она никогда не поступила бы так», — подумала Раушан. Но и ребята глупые. Почему они равнодушны к Кулянде? А ведь она во сто раз лучше Раушан. Некрасива? Но это неправда, она совсем не дурнушка. Некрасива! Раушан тоже не красавица.
Послышался гудящий звук. Он приближался. Перелетев через передовую, разорвался снаряд. Затем грохнули еще два взрыва, Раушан спрыгнула с повозки. От штаба торопливо бежал Коростылев.
Октябрь на исходе. Наступление врага продолжалось. Рубежи, на которых десять дней назад дивизия завязывала бои, остались далеко в тылу врага. Вместе со всем фронтом и дивизия Парфенова пятилась назад, цепляясь за каждый городок, деревню, холмы, упорно оборонялась под напором превосходящих сил противника, откатывалась дальше на восток.
Положение на других фронтах было не лучше. Юго-Западный фронт. упиравшийся в правый фланг немецкой армии и выдававшийся клином, за последние дни тоже отодвинулся на восток, почти сравнявшись с линией других фронтов.
Началась дождливая, туманная осень средней полосы России. С утра небо затягивалось сплошь тучами. Моросил дождь, продолжительно и нудно. Небо и земля сливались, пепельно-серый туман окутывал леса, оседал на рыжую траву. Подмораживало, на сосновых иглах по утрам лежал сверкающий иней.
С утра до вечера и всю ночь по малым и большим дорогам нескончаемым потоком двигались на восток войска и беженцы. Машины, военные повозки, крестьянские крытые телеги, потоки людей и домашнего скота... Внезапно появились фашистские самолеты. Люди в страхе бросались в кюветы, укрывались в лесах, оврагах. Брошенные на дороге лошади с диким ржаньем и храпом мчали пустые телеги. А затем, когда самолеты улетали, люди долго освобождали путь, сбивались, топтались, ругая друг друга. Шум, гам. Наконец, сладив с хаотической неразберихой, снова двигались на восток.
Основное направление врага — Москва. Он приближается к ней. Рубежи, на которых наше командование надеялось остановить врага, один за другим оказывались за спиной немцев. Октябрьское наступление фашистских дивизий, которое Гитлер предпринял с расчетом принять 7 ноября парад в Москве, продолжалось. Обстановка складывалась очень серьезная...
В один из этих грозных дней в штаб Парфенова прибыл на «виллисе» в сопровождении двух адъютантов командующий фронтом генерал-лейтенант. Это был статный моложавый мужчина с открытым лицом. Парфенов заметил его, лишь когда он приблизился к столу. Легкими, быстрыми шагами генерал-лейтенант подошел к вставшему Парфенову и протянул руку.
— Сидите, сидите, Иван Васильевич, — сказал он своим резковатым баритоном. — Как житье-бытье? — Его внимательные глаза как бы мельком окинули Парфенова с головы до ног.
— На житье не жалуюсь, Константин Константинович. Одна беда — отступаем, — с улыбкой ответил Парфенов.
— Наступательными действиями никто из нас похвастать не может.
По привычке, привитой многолетним жизненным опытом, Парфенов незаметно между разговором разглядывал генерал-лейтенанта. По возрасту моложе его. Подтянутая, подобранная фигура говорит о нерастраченной энергии. Он часто сжимает в кулак свои длинные белые пальцы или сильно барабанит по столу.
— Но это долго не продлится. Мы перестанем отступать, — проговорил генерал-лейтенант. — Силы противника?
— Две пехотные дивизии, танковый полк и два полка тяжелой артиллерии.
— Верно. Эти данные есть и у нас. Я о другом хотел спросить — вы к противнику ближе: каков дух его войск?
Парфенов заметил: генерал-лейтенант тоже следил за ним своим оценивающим взглядом. И, по-видимому, ждал от него тактических соображений, продуманной оценки моральных сил противника. Парфенов собрался с мыслями:
— После первых и победоносных для гитлеровской армии месяцев войны стремительность немецкого наступления немного спала. Но немцы еще сильны. Это ясно. По всей вероятности, у цели наступления они выложат все силы. Как говорится, из кожи будут лезть.
— Да, вы правы, — согласился генерал-лейтенант. — Вот тогда-то и ударить по врагу. — Генерал-лейтенант энергично сжал кулак. — И мы, безусловно, ударим, да так, что он надолго запомнит. — Сделав паузу, командующий заговорил спокойно, словно советовался сам с собой. — Но мы пропустили их слишком далеко. Очень далеко пропустили. Народ не ждал от нас такого, с позволения сказать, маневра. Он иначе думал о своей армии.
Внутренняя боль проглянула во взгляде генерал-лейтенанта. Парфенов побледнел и поднял на командующего глаза. Но голос его оставался спокоен, когда он сказал:
— Вы говорите истинную правду, товарищ генерал-лейтенант. Народ верит нам, но сердце народное в тревоге. Каждый день он ждет от нас хороших вестей. А мы запаздываем с этими вестями.
— Неделю назад мой штаб стоял в одной из местных деревень, — сказал генерал-лейтенант. — Расположились не то в колхозном правлении, не то в сельсовете. Я вышел — гляжу: передо мной старик со старухой. Я поздоровался и пошел было дальше. Адъютант говорит старухе: «Какое у вас дело? Не задерживайте». Но старуха заступила мне дорогу. Напористая, — командующий усмехнулся. — «Мне нужен самый первый генерал, настоящий. Ты будешь?» Я отвечаю: «Верно. Это я настоящий генерал». — «Тогда, говорит, втолкуй моему старику. Надоел он мне, хочет сниматься с родных мест. Вы как, остановите немцев? Я так думаю — остановите. Разъясни это, родной, моему тугодуму». Гляжу, подбоченилась старуха и не отступает от меня. И вижу — не сомневается в моем положительном ответе. Вы понимаете, Иван Васильевич, какая тяжесть легла мне на сердце. А солгать я не мог. Я ответил: «Лучше будет, если уедете». И вы бы видели, как она поглядела на меня! Глаза ее говорили: да ты что, не спятил? Куда же вы идете? Ведь за спиной-то у вас Москва?!
Генерал-лейтенант, нахмурившись, смотрел на столешницу и пальцами выбивал по ней дробь.