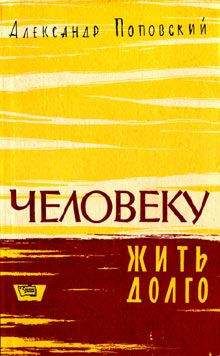Однажды она положила перед ним несколько книг и сказала:
— Прочитайте, прошу вас, они вам пригодятся.
К чему ему литература о лепре, он не намерен лечить прокаженных. Ни в Индию, ни в Африку он не собирается…
— Сделайте это, Арон Вульфович, для меня, — попросила девушка, — мне понадобятся ваши советы.
В те дни Каминский был занят другим. Он получил квартиру и расставлял в ней свою мебель, хранившуюся у друзей, пока он скитался из города в город.
— Теперь я, пожалуй, долго не протяну, — в связи с этим шутил Каминский. — До сих пор мою жизнь поддерживала надежда, что я обзаведусь домом, буду есть за собственным столом, спать в своей кровати. Развешу свои фотографии, расставлю безделушки и стану ими любоваться. Цель достигнута, а с ней исчезла и надежда, которая поддерживала мое слабое сердце.
Книги о лепре были прочитаны, и, возвращая их девушке, Арон Вульфович спросил:
— Вы будете меня экзаменовать или поверите, что я усвоил урок?
Она пропустила мимо ушей шутливый тон, села за стол и стала что-то старательно выводить на бумаге. Буквы выходили ровными, строгими, словно в строю. «Взгляните на нас, — как бы говорили они — какие мы ладные! Где вы встретите таких молодцов!»
— Мне пришла в голову интересная мысль, — с виноватой улыбкой проговорила она, — я записала ее и когда-нибудь вам расскажу.
Вместо отпета Каминский огорченно развел руками и с укоризной заметил:
— Опять ваши пальцы в чернилах! Как вас трудно к чему-нибудь приучить!
Девушка и на это не возразила. Когда рука ее замерла на последней строке и точка замкнула величественное шествие букв, она спрятала бумагу в ящик стола, подняла глаза и с мечтательной медлительностью сказала:
— Вы знаете много чудесных лекарств. Укажите мне такое, которое помогло бы моим больным. У вас, гомеопатов, свои средства, подскажите мне что-нибудь… Вы не представляете себе, как мне хочется найти что-нибудь действенное против лепры. Мне кажется порой, что, пока мы не отрешимся от нашей практики и не поведем исследование в другом направлении, ничего не выйдет у нас… Мы уткнулись в тупик, и надо иметь мужество в этом сознаться.
Арон Вульфович не знал, чему больше удивляться, — наивности ли девушки, возмечтавшей найти средство против проказы, или уверенности, с какой она звала порвать с утвердившейся практикой лечения. Тысячи лет человечество искало лекарств против грозной болезни, усилия ученых всех времен и народов оказались напрасными, где уж ей справиться с лепрой!.. Ни спорить, ни возражать Арон Вульфович не стал и только осторожно заметил:
— Стоит ли тратить жизнь на изучение болезни, которая исчезает. Всего в Европе больных тысяч десять, пройдет лет двадцать, и о проказе забудут…
Не обращая внимания на замечания Каминского, она продолжала развивать свою мысль.
— Многие исследователи избегают ответственной темы. Они пишут диссертацию «по вопросу», который решался другими, «еще раз о том», что известно давно. Я но могу перепевать чужие мысли. Что же касается лепры, — вдруг вспомнила она возражения Каминского, — то в Европе она действительно вскоре исчезнет, по мне не менее жаль прокаженных Африки и Азии, а их там слишком много…
— Боже мой, — потерял наконец терпение Арон Вульфович, — вы, как и отец, начинены иллюзиями… К чему они вам?
— Мой отец не фантазер, — сухо произнесла она, — если он иногда и видит дальше других, то нельзя его за это слишком строго судить. Я понимаю, как трудно порывать с традицией, насчитывающей тысячи лет, но мне кажется, что другого выхода нет. Мне хочется иногда смешать все на свете и этой смесью лечить больных. Я так бы и сделала, но, вспомнив, как строго отец осуждает всякие поиски вслепую, я убеждаю себя не спешить. Я стараюсь не отчаиваться, брать пример с отца, ждать и терпеть… Если бы я могла, как он, выжидать! Ни ждать, ни надеяться я не могу, я должна что-то сделать, и как можно скорей… Мне кажется, что если бы я заболела проказой, трудности устранились бы сами собой… Что вы так смотрите на меня? Не беспокойтесь, Арон Вульфович, искусственно заразиться нелегко, да и характера у меня на это не хватит…
Вот когда Каминский наконец понял, что случилось с его любимицей, откуда эта перемена в ней. Девушку поразили недуги, свойственные ее отцу: безудержное влечение к беспочвенным мечтам, слепая покорность навязчивой идее и страсть, оттесняющая все радости жизни.
Слишком неожиданно было заключение. Арон Вульфович вначале не поверил себе, но, сопоставив случайно и не случайно подмеченные обстоятельства, он заключил, что она всегда была такой, ничто в ней не изменилось. Вопреки советам друзей и родителей, побуждаемая прихотью или случайным интересом, она из института ушла в лепрозорий и полюбила свое трудное дело. С той же решимостью, ценой ссоры с отцом, она последовала за своим чувством и переняла образ мыслей, язык и взгляды Золотарева. С неменьшей определенностью и страстью она прониклась мечтой решить проблему лепры. С ней, как и с отцом, бесполезно спорить, решил Каминский и, делая вид, что сочувствует ей, осторожно заметил:
— Спасибо за доверие, я охотно вам помогу… — Минуту спустя он как бы невзначай обронил: — Не лучше ли было бы вам помогать мне? Право, более верное дело.
— Вы не должны были мне это говорить, — просительно и вместе с тем твердо проговорила она, — гомеопатия никогда не заинтересует меня.
Каминский был готов к такому ответу, и все-таки ее усмешка покоробила его.
Спасибо за откровенность, его так же мало привлекает лепра, как ее — гомеопатия. Тратить время на болезнь, относительно которой известно, что ее скрытый период длится не то год, не то десятилетия, что возбудитель открыт и тем не менее неуловим, ни вырастить его в лаборатории, ни заразить им животное, ни выяснить толком, как он проникает в организм, невозможно — такого рода дело не для него… Какое безумие заниматься лепрой! Ведь в ней ничего определенного нет! Говорят, что она заразительна, но супруга прокаженного и его дети могут годами общаться с больным и оставаться здоровыми. Вчера еще пораженные ткани сегодня стерильны. Ни вакцины, ни сыворотки, ни лекарственные средства не могут больного излечить. Какая наивность в такой неразберихе вообразить себя способной что-нибудь предпринять! Он, конечно, не скажет девушке всей правды, но и не даст ей следовать по ложному пути…
Уж если отдать свои силы и самую жизнь науке, то разве лишь тому ее направлению, которое ждет успех… Спору нет, идеям надо честно и верно служить, но, беспочвенные, они нас истощают и рано лишают надежд. Он сам это изведал в своей трудной жизни — за частностями порой не замечал цели и, пренебрегая достигнутым, расточал свою страсть впустую. Неспокойная голова! Все ему казалось не на месте, воображение рисовало несчастья там, где были лишь трудности и неурядицы… Каких только глупостей он не натворил! То ему мерещилось, что юноши и дети лишены радостей благодатной весны. Именно в нору, когда пробуждаются силы природы и молодая жизнь тянется к ной, наступают экзамены — время затворничества и перенапряжения душевных сил…
С той же непримиримостью он ввязался в борьбу с законодателями модного спорта, людьми, призванными развивать выносливость и силы молодого поколения. «Я понимаю, — сказал он им, — когда рукоплещут акробату не столько из восхищения его искусством, сколько из приятного сознания, что возможности человеческого тела безграничны. Но как мириться с тем, что мальчишки и девчонки расшатывают свое здоровье, надрывают сердца в бессмысленном подражании спортсменам?» И в этом случае он всю силу своего беспокойства направлял мимо цели. Не средствами убеждения и не логикой доказательств, а непримиримым отрицанием всякого компромисса отстаивал он свою правоту…
Ему не нравились больничные порядки, произвол знаменитостей, легкость, с какой они передоверяют больных малоопытным помощникам. В клиниках ему казалось, что там порой экспериментируют на людях, а хирурги ложной шумихой заглушают голоса истинной науки.
Какое испытание — провести жизнь в напрасной борьбе! В тяжбах и стычках искать справедливость!
Неспокойные люди — тяжелое испытание для окружающих! С ним охотно расставались знакомые и друзья, его увольняли со службы по малейшему поводу. Благомыслящие врачи отворачивались от него, зато его поддержки искали неудачники. Их круг нарастал, а он становился все более одиноким. Тогда его осенила озорная мысль: публично отречься от академической медицины, столь дорогой его противникам, и объявить себя гомеопатом. Не то, чтобы это направление было дорого ему или его привлекало учение Ганемана, — он метнул в своих врагов тем, что ему самому было дороже всего на свете.
И на новом поприще мятежная душа не нашла себе покоя. Ему показались слишком тесными пределы, отведенные для врачей-гомеопатов. Недостаточно клиник, мало аптек и нет ни одной гомеопатической больницы. Нет общества врачей-гомеопатов. Многие из них с учеными степенями, все с высшим образованием, но ни обмениваться опытом, ни печатать свои труды они не могут.