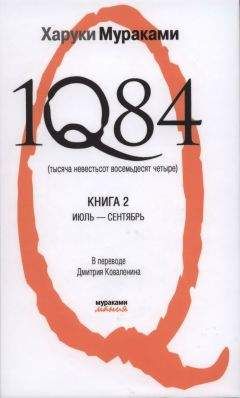— Он смотрит! Он улыбается! Пойдемте!
Вечером город кажется неизведанным, таинственным, людным. Огни магазинов переряжают человека на каждом шагу. Вот он мрачен и загадочен, вот ласков и простодушен, вот печален, вот радостен. Если хочешь перелить свое счастье в мускулы и кости, испробовать его на ощупь, ладонью — выйди на улицу в час, когда только что засветились фонари и лавки, пробеги сквозь снующие по тротуарам девичьи выводки, разминись с ловеласом, бездельником и жуиром, посторонись занятого, озабоченного человека, — и тебе покажется, что вся жизнь зажата у тебя в пригоршне и ты волен выпить ее залпом или выплеснуть на дорогу...
Когда Мари, крадучись по променадам, вернулась от Андрея домой, обер-лейтенант фон цур Мюлен-Шенау прохаживался на площади ратуши. Было привычно хорошо слышать вокруг себя шепот, чувствовать на своей груди взгляды прохожих, отвечать на стремительные поклоны гимназистов и козырянье солдат, знать, что встречные оборачиваются и смотрят вслед. Мундир помогал нести легко и прямо разгоряченное тело, сабля [220] нет-нет отскакивала от упругой ляжки, и придержать ее слегка двумя пальцами было приятно. Каждый десятый — двенадцатый взгляд встречных глаз чудился ему зовущим и нежным, и где-то в висках, точно от вина, плавали круги, то черные, как накрашенные ресницы, то алые, как губы.
Он зашел в магазин, в окне которого были выставлены картины, походил по рядам полотен и рам, весело щурясь на огни рефлекторов и работы доморощенных художников, полистал и велел отложить гравюры.
Из магазина он не вышел, а вылетел — разрумяненный, стремительный, овеянный запахом свеженадушенной униформы. Сабля шаркнула по двери, задела за штору, ноги запружинили по асфальту — и вот он опять в мягком дурмане вечернего часа, среди улыбок, шепота и взглядов.
Бородатый сутулый ландштурмист, оторопев перед офицерским мундиром, внезапно блеснувшим в толпе, неуклюже взмахнул рукою.
— Вы чуть-чуть не отбили мне нос, старикан, — с улыбочкой сказал фон Шенау, остановив солдата. — Вас следовало бы подержать в казарме. Отдайте честь по правилу.
Ландштурмист повернулся, отошел на несколько шагов. Прохожие остановились. Бородач, припечатывая подметки к асфальту, двинулся к офицеру, вскинул локоть. Кто-то громко засмеялся.
— Назад! — крикнул фон Шенау.
Публика быстро скучилась по сторонам, образовав коридор, по которому свободно маршировал солдат. Он был явно плохой, может быть худший, строевик, и движенья его были жалки, он шел, как птица, тычась вперед носом на каждом шагу. Это было точно в оперетке. [221]
— Назад! — скомандовал фон Шенау, вдруг осипнув.
Гимназисты хихикали, подобострастно заглядывая в лицо офицеру. Какая-то барышня всплеснула в восторге руками. Ландштурмист в третий раз прогромыхал сапогами и взмахнул еще безобразней рукою.
Фон Шенау давило какое-то слово, над воротником его взбухли жилы, он весь отвердел от напряженья.
В этот миг кто-то гулко крикнул сзади:
— Позор!
Фон Шенау вздрогнул и вдруг увидел себя — героя Шампани, кавалера Железного креста, офицера саксонской армии — перед толпой, ждавшей развязки, достойной мундира, титула, ордена. Через минуту весь город будет знать, как поступит офицер, когда над затихшей толпою повисло, как пощечина, слово позор! — весь город! Через час — все газеты, через день — вся страна! Теперь, не теряя ни секунды, в тишине, на виду у всех, для сотни глаз и ушей, надо решить, что делать, надо найти выход!
Фон Шенау шагнул к ландштурмисту, стоявшему с прижатой к голове рукою, и раздельно проговорил:
— Вы слышали, как народ заклеймил ваше отношение к службе? Хороший урок. Ступайте!
Потом повернулся и, рассекая толпу, врезываясь в одобрительный ее гул, быстро, пружинно заскользил по тротуару.
Он шел к Мари.
Казалось, что вечерние огни померкли, выдохлись, остыли, что люди смотрели на него — героя Шампани — недовольно, и солдаты козыряли сдержанно, без охоты. [222]
Он жалел, что затеял нелепую сцену, и его раздражало чувство какой-то обиды. Он не мог отвязаться от застрявшего в ушах гулкого крика: «Позор!» — и не мог забыть той секунды, когда он принял этот крик на свой счет. Конечно, этого не было, этого не могло быть! Тот человек, что крикнул, — взглянуть бы на его лицо! какой он? — пережил, в сущности, то же чувство, что и он, обер-лейтенант: такой солдат, как этот ландштурмист, позорит армию. Позор, позор! Но, боже мой, какая тоска на улицах этого городишка! И какие нудные, серые, неприятные бюргеры! Если бы не Мари, он не остался бы здесь и одного часа. А с ней — с ней хорошо.
Он входит в ее комнату, тихо прикрывая за собою дверь, и, вглядываясь в сумрак, говорит:
— Вы не заняты?
Мари вскакивает с дивана, оправляет торопливо платье, молчит. Смутные слова подкатываются к ее горлу, но произнести их нет сил.
— Какая глупая история! — восклицает фон Шенау и, осторожно прощупывая темноту, присаживается на краешек дивана. Он рассказывает о нелепом ландштурмисте, похожем на птицу, и о том, что армия опускается, дисциплина падает, что косорукие и косолапые бородачи не годны даже в кашевары.
— Но ведь это и есть Германия! — перебивает Мари, и ей кажется, что вся мебель вдруг насторожилась, привстала на цыпочки, заострила уши.
— Н-да... гм-м... весьма вероятно. Н-но я говорю об армии... Это не совсем одно и то же. Когда этот увалень продемонстрировал свою выправку, кто-то из толпы крикнул: «Позор!»
— Это относилось к солдату?
Маркграф привскочил, бросил взгляд на дверь: [223] она была плотно закрыта. Тогда он сложил руки на груди и начал ходить по комнате.
— Я, кажется, понял тебя, как ты хотела. Но неужели ты думаешь, что я не зарубил бы на месте негодяя, который посмел бы оскорбить в моем лице...
— О-о, конечно! Я не сомневаюсь ни минуты! Ведь для офицера нет другого выхода.
— Нет выхода?.. Впрочем, оставим. Ты сегодня в дурном расположении духа?
— Да.
— Жаль...
Он подошел к дивану, потянулся к Мари обеими руками. Она забилась в угол.
— Жаль. Я хотел тебе напомнить, что нам надо поторопиться...
— Почему «надо»?
— Мари!
— Прости.
— Комиссия признала меня здоровым. Я получил назначение на Восточный фронт.
— В таком случае зачем спешить?
— Два года назад...
— Ах, два года! Еще два часа назад я могла думать, что это необходимо!
Он вдруг зажал ее голову в своих ладонях.
— Что случилось, Мари, два часа назад? Можно ли было в темноте, улегшейся по углам ночи, разглядеть, как в глазах Мари переместились отблески двух решений? Сумрак стал тьмою, зрение привыкло к ней, но преодолеть ее не могло, и взор тянуло к окну, белевшему слитными огнями глубоких улиц.
Мари поддалась движению зажавших ее голову рук, засмеялась тихо и голосом, который укрощает мужчину, сказала: [224]
— Глупый. Я сама не знаю, почему я такая взбалмошная.
— Значит, когда?
— Нет, нет. Я только ответила на последний вопрос.
— Но меня могут услать каждый день!
— Не все ли равно, отправишься ты с кольцом или без кольца?
— Для меня, понимаешь, Мари, для меня не все равно... Ну?
Мари встала. Фон Шенау подался вперед, устремившись за ней, и вдруг, потеряв всю прямизну и отчетливость, обер-лейтенант повис на краю дивана каким-то комком.
— Ну?
— Я не хочу.
— Мари!
— Вас смущает неопределенность? Вам неловко перед посторонними?
— Я люблю тебя.
— Я знаю.
Он поднялся, новая, упругая униформа выпрямила его, он наклонил голову.
— Я вижу, сегодня с вами нельзя говорить. До свиданья. — В дверях он обернулся. — Может быть, вы приедете в Шенау?
— Может быть.
И вот Мари снова одна. Руки ее быстро взлетают в воздух, вытягиваются над головой: она подымается на носки — тонкая, легкая, неслышная, и дыханье ее стелется покойным, согласным с ночью шорохом. Она ложится, ее обступает неразличимая в темноте беззвучная мебель, и комната кажется ей странно похожей на жилище Андрея...
Обер-лейтенант идет к вокзалу. По сторонам [225] перемежаются взгляды, улыбки и шепоты, грудь его по-прежнему несет Железные кресты первой и второй степени, но ему холодно, сабля мешается под ногами, огни кругом мерклы и убоги. Он берет билет до Лауше и отыскивает пустое купе.
Цитадель стояла безмолвной и неприступной. Старые камни ее были багрово-сини; между плит, опоясавших основанье узкой дорожкой, пробивалась зелень плесени и грибов: по плитам не ступала человеческая нога.
Старомодные домики испуганно таращили свои оконца на цитадель и пятились от ее подавляющей мрачности, образуя просторную кольцевидную площадь. Но люди привыкли к цитадели. В детстве они играли подле нее в орла и решку, залезали с приступа фундамента друг другу на спины, пачкали древние камни стен мелом и красками. В цитадели помещались тогда городские весы и сеновалы, и багрово-синяя крепость была похожа на старого беззубого медведя, свернувшегося погреться на солнышке.