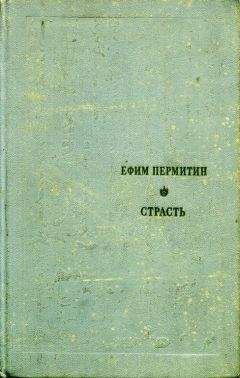Сын так разволновался, что его начала бить крупная дрожь.
Мать, оттащив сына от меня, прижала его к своей груди и заговорила с ласкою в голосе:
— Что же тут стыдного, если ты сплутал и испугался. Я бы тоже испугалась. Да и по зареванному твоему лицу я и так догадалась, как испугался ты. А вот что теперь признался во всем — хорошо.
И я — грешница, — она перевела взгляд на меня, помолчала немного и продолжила: — я твердо уверена, что отец с умыслом написал в рассказе, что он якобы во всем поверил тебе: хотел испытать — сознаешься ли ты или не сознаешься, что немножко прилгнул нам? Не мог он поверить этому, потому что сам в твоем возрасте, конечно, плутал не раз ночью в лесу.
И хотя в книжке и правильные приведены слова «мужчина не имеет права трусить», но в укор этого поставить тебе нельзя — эдаким неправдоподобным бодрячком выглядел бы ты в его рассказе…
Под руками матери, от ласковых ее слов, мальчик затих.
Я посмотрел на жену благодарными глазами: каким-то шестым чувством мать безошибочно угадала, что, утешая сына, она одним выстрелом убила двух зайцев.
— Рассказ свой я переделаю заново. Ты совершенно права: рассказ и не продуман и не прописан.
Об Алексее Силыче Новикове-Прибое — Силыче, как звали его мы, — хочется и говорить так же просто, как детски проста и ясна была его душа.
О Новикове-Прибое-писателе, о матросе-революционере писали многие. Я хочу сказать о Силыче в той обстановке, в которой особенно широко распахивалась чудесная его душа: в природе, на весенней охоте, когда он, житель города, неустанный труженик за письменным столом, как бы превращался в того добродушного милого деревенского парня, каким он был на заре своей человеческой весны.
…Мы были знакомы уже много лет. Встречаясь на писательских вечерах, в книжной лавке, непременно сводили разговор к любимой обоими охоте. И боже, как мгновенно загорались его глаза, как менялось и хорошело крупное, усатое его лицо!
Весною 1935 года судьба столкнула нас на охоте. Поздним февральским вечером, когда в Москве бушевала настоящая сибирская пурга, мою работу прервал вдруг телефонный звонок.
По первым же фразам я узнал автора прославленной «Цусимы».
— Не спите? Не оторвал от дела? А я не могу работать: душа затосковала по охоте. За стенами черт знает что творится, я же грежу наяву — вижу себя то в долбленке на вежском всполье, то в шалаше на тетеревином току. И представьте, в гуле ветра явственно слышу бульбуканье чернышей.
Прощаясь, Алексей Силыч неожиданно для меня спросил:
— А не хотите ли весной составить компанию?.. Есть у меня дорогое местечко. От многих москвичей держу в секрете и знатно охочусь там.
Силыч яркими красками нарисовал привольные места волжско-костромских, мало-вежских разливов, где когда-то охотился Некрасов и где он написал своего «Деда Мазая».
Я согласился.
До сборов на охоту мы хорошо обговорили все, связанное с поездкой.
О времени выезда Силыч должен был получить телеграмму от преданного ему местного охотника Михаила Григорьевича Тупицына.
Третьим нашим спутником намечался большой оригинал в жизни, старый холостяк, безудержно-страстный охотник, поэт, по самую маковку влюбленный в русскую природу, Дмитрий Павлович Зуев, в то время секретарь Силыча, позже — постоянный очеркист-фенолог «Вечерней Москвы».
Невозможно передать захлебисто-эмоциональных рассказов пылкого, юношески увлекающегося Дмитрия Павловича и всегда смешных, добродушно-незлобивых повествований Силыча в вагоне.
За зиму все мы натосковались о природе: каждая лужица на полях, малиново зарозовевшая от вечерней зари, каждый перевиденный из окна вагона поющий на скворешне скворец, глянцево-черный, белоносый грач на обочине дороги вызывали трепет в наших душах.
Мы чувствовали себя школьниками в первый день каникул.
Ехали всю ночь. И конечно, не сомкнули глаз и, безусловно, пели бы, если б не боялись обеспокоить спящих соседей по купе.
Самый старший по возрасту из нас был Силыч, но, право же, он был, пожалуй, более всех нас и оживлен.
Все — от позы спящего, раскинувшегося молодого цыгана с кудрявым чубом до необычайно объемистого рюкзака Дмитрия Павловича, не помещавшегося ни на какой полке и с грохотом падавшего чуть ли не на каждой остановке, — вызывало смех.
Силыч буквально содрогался всем своим квадратным, плотно сбитым, «матросским» телом. На глазах его выступали слезинки.
Так мог смеяться только здоровый, сильный человек простой и ясной души.
Зуев извлек из чехла своего «голланда» и начал превозносить его достоинства.
— Какой баланс! Какая законченность линий! — Вскинув бескурковку, он прищелкнул языком. — Не ружье — Аполлон Бельведерский!.. Друзья мои, дорогие мои друзья! — повернувшись в сторону спящего цыгана и умерив голос, как великую тайну, упоенно зашептал он нам. — В прошлом году в этих же самых Вежах заветными патрончиками с концентратором, которые я называю «до-става-лочка-ми», — Дмитрий Павлович выразительно протянул изобретенное им слово, — я делал настоящие чудеса.
Чирка, притом самого что ни на есть из мелкотравчатых мелкотравчатого грязнушку, через весь затон стеганул!..
Рассказчик вскочил и так выразительно взмахнул рукой, что мы и без слов поняли, что сталось с злополучным чирком-грязнушкой.
Силыч не выдержал, тоже вскочил с сиденья, извлек из чехла достаточно потрепанный, но еще добротный «зауэр», сложил и, в точности копируя Зуева, вскинул ружье к плечу.
— Не «зауэр» — Гермес! Сын Зевса и Майи! — подняв палец, торжественно изрек Силыч и посмотрел на меня хитровато прищуренными глазами. — А как бьет! — Силыч тоже опустился на лавку и также таинственно зашептал: — Не поверите, осенью в прошлом году, на даче, сорвалось оно со стены и… на стеклянные банки с вареньем. Семь штук вдребезги!.. Что было с женой! А ты говоришь — чирок!.. — И Силыч первый закачался, содрогаемый безудержно-заразительным смехом.
…В Кострому приехали на рассвете. Утром же погрузились в горкомхозовский катерок и мимо знаменитого Ипатьевского монастыря вышли на неоглядные поймы Волги и Костромки.
— Ну вот мы и на разливах! Теперь только гляди да слушай, сибирячок!.. — Силыч шутливо подтолкнул меня локтем.
Картина действительно открылась поразительная. Весною в этих «мазаевских» местах водополье поистине безбрежно.
«Всю эту местность вода поднимает, так что деревня весною всплывает, словно Венеция. Старый Мазай любит до страсти свой низменный край…» — невольно вспомнились мне незабываемые со школьной скамьи некрасовские строки.
Насколько только может охватить глаз — вода.
Далекие колокольни церквей, вертящиеся крылья мельниц на гривах, смешанные леса — все кажется сплошным вспольем.
Спрямляя путь, катер мчится по затопленным полям и покосам. Вершинки тальника да макушки камышовых метелок напоминают нам, что летом здесь луговые озерки. Сейчас же под легким ветром бегут по всему водополью кудрявые барашки. Не различишь, где Волга, где Костромка, — слились, смешались их разливы, радуя душу своей бескрайностью.
И если мы, «сухопутные моряки», как шутя называл меня и Зуева Силыч, ликовали, любуясь открывшимися просторами, то как же радовался он, вырвавшийся из каменного города старый морской волк!
Ни на секунду здесь не было безмолвия. То гоготали пролетающие на север вереницы гусей, то с серебряными трубными кликами проносились в голубых весенних небесах, сверкая, как нитки дорогих жемчугов, лебеди, крякали, пищали, свистели на разные голоса утки и кулики всех пород.
Весенняя жизнь на разливах ярка и поэтична.
— В Вежах и дома, и амбары, и бани на сваях! — сказал Силыч. — Нигде этого, кроме здешних мест, не увидите! Нигде, даже в твоей благословенной Сибири! — И он легонько толкнул меня в бок. — От самого двора — в лодку, и хоть за полсотни верст ступай. А уж дичи насмотришься, гомону птичьего наслушаешься! Кончится охота, а еще несколько дней в ушах кряканье утиное будет стоять, — заметно волнуясь, подогревал мое воображение Силыч.
Только теперь, попав в эти широкие, благословенные места, я понял, почему Силыч в зимнюю пургу позвонил мне, сибиряку, ежегодно охотившемуся на знаменитых просторах Барабинско-Чанских озер и рассказывавшему ему не раз о богатствах родной природы: патриот и сын своей земли, он захотел показать мне, что и здесь, почти рядом с Москвой, те же богатства и красота, что и в «далекой» моей Сибири!
Внимание мое привлекла необычная туча, появившаяся на безоблачном горизонте. Я, не отрываясь, стал смотреть на нее. Очертания тучи стремительно менялись, она уменьшалась, уменьшалась и наконец совсем пропала.
«Да ведь это же гуси!» — подумал я, но опасался высказать вслух свое предположение, чтоб не оскандалиться в глазах двух по сути мало еще знакомых мне охотников.