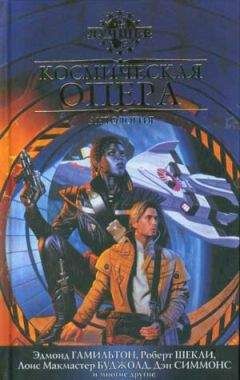— Одну минутку, я только позвоню.
Она подошла к столику с телефоном, набрала номер.
— Анфиса? Сейчас же приезжай. Ираклий извелся без тебя. Я попрошу Федю подъехать.
Раскрыв окно, крикнула Чикину:
— Федор Иваныч, Фиса хочет к нам. Поезжайте за ней.
Когда шум мотора за окном стих, Татьяна Петровна вернулась к столу, присела и тут же поднялась. Надо было расставлять тарелки.
— Итак, уважение, — продолжила она прерванный разговор. — Затем…
— Прости, Таня, — перебил ее муж. — Но уважение зарабатывают. Я уже как-то говорил об этом.
— Папа, — покраснела Люся, — зачем же адресоваться к маме? Ведь ты не ее имеешь в виду?
— Не ее. Но тебе не бесполезно послушать. На будущее.
Он повернулся к жене:
— Мы уже толковали до вас: «любовь» и «люблю» — разные вещи. Ты можешь любить, как Джульетта, но это еще не любовь. Нужен Ромео. Мужчина, который любит тебя.
— Я не чужда этой оригинальной мысли.
— Зря иронизируешь. Мысли сами по себе — только полдела. Любить — значит, вызывать ответную любовь.
— Что прикажешь делать?
— Я не лектор, и у меня нет готовых советов. Жить достойно — вот что делать. Это никогда не легко — и всегда надо. Тогда мужу будет интересно с женой, и жене — с мужем.
— Ну, что ж — против этого не стоит возражать. И все же я рискну поспорить с тобой. Для добрых дел нужны время и возможности.
Петька вошел в комнату с охапкой бутылок, поставил их на стол, вопросительно посмотрел на отца.
— Теперь, Петя, тащи закуску и все остальное. Нечего тебе слушать наши стариковские разговоры.
— Мне кажется, Прокофий прав, — после паузы сказал Мирцхулава, — и я хочу немного добавить. Ты знаешь, Таня: у нашей любви есть глупый и гнусный враг. Мещанство. Если препарировать мешанина, то легко обнаружить: вместо желудочков сердца у него один огромный желудок. Это — бездонный мешок. Мещанин, как древний идол, никогда не бывает сыт. Он лопает любое подношение своих поклонников: комоды и пуфы, сало и муку, тряпки и шубы. Он отгорожен от мира и общества, от долга и идеалов стенами своего дома. Шторм в море и ракета на Марс ничего не значат для него, если из них нельзя извлечь кусок сала.
— Вы преувеличиваете, Ираклий Григорьич, — заметила хозяйка. — Такой флюс в нашем обществе нетрудно излечить.
— Это не флюс, Таня. Это серьезнее и трудно поддается терапии. Мне кажется, нужен хирург. Мещанин всегда хамелеон. Он приспосабливается и перекрашивает свою шкуру применительно к политическому пейзажу. В нашем обществе он говорит одно и делает другое.
— Хамелеон — вполне точное слово, — поддержал товарища Прокофий Ильич.
— Ты забыл о теме нашего разговора, папа.
— Нет, не забыл. Мещанин глуп, самодоволен и равнодушен ко всему, что не умещается в его желудке. Любовь для него — тоже кусок сала, и мещанин заботится об этом куске ровно настолько, насколько от этого зависят его гастрономические свойства.
— Совершенно верно, — кивнул головой Мирцхулава.
— Мы с тобой коммунисты, Ираклий, и мы молимся совсем иному богу. Мы вправе рассчитывать, что наши семьи — одной с нами религии.
— Религия — не очень подходящее слово, — усмехнулся начальник флота. — Впрочем, как тебе угодно.
— Дело не в слове. Счастье за счет другого — подлость. В этом дело. Полагаю, я заслужил право на такую сентенцию.
— Конечно, папа.
— Если «конечно», хочу спросить тебя: может счастье гнездиться в своем кутке без веры, без порыва, в стороне от народа?
— Не знаю… Думаю: нет, папа.
— Настоящий человек, Люся, хочет быть героем в глазах своей любви. Так было всегда, так будет вечно. Но ведь даже мещанин не скажет вслух, что он проявил геройство и достал лишний ковер. Вот и выходит: герой и мелкая цель — на разных полюсах.
— Ты придаешь этому слишком большое значение, — заметила Татьяна Петровна. — И я хочу есть.
Было видно, что ей не нравится разговор.
— Петька! — крикнул Прокофий Ильич. — Иди кушать.
Он бросил взгляд на дверь и смутился. Там стояла Анфиса, из-за плеча которой выглядывал Чикин. Шофер вежливо усмехнулся, будто говорил этой усмешкой: «Я же вам толковал, Фиса Ивановна, блажат старики-то!»
Павел взглянул на гостью. Она была еще очень молода и ярко красива. Шелковое платье плотно облегало стройную фигуру, русые волосы, уложенные в замысловатую прическу, были похожи на праздничный торт. Она сощурила длинные ресницы и рассмеялась:
— Я стою уже здесь полчаса, и муж, который извелся без меня, даже не замечает этого.
Подошла к Павлу, кокетливо протянула ему руку:
— Молодой человек, я отдаю себя под вашу защиту.
Павел вскочил и, покраснев как свекла, подставил Анфисе Ивановне стул.
— Прости, Фиса, — извинилась Татьяна Петровна, — мы заговорились и не заметили тебя.
— Я не в претензии. Но ближе к делу. У меня пересохло в горле, и я хочу есть. Весь день ждала мужа и постилась.
— Награда последует немедленно, — наливая рюмки, сказал жене Мирцхулава. — И за «ждала» и за «постилась», дорогая.
Уха была густая и вязкая, как разведенный столярный клей, но все проголодались и ели с аппетитом.
— Отменная уха, — сказала Анфиса Ивановна, пробуя печень трески. — Озерная и речная рыба вкуснее морской, Ираклий. Хорошо, что ты поехал на озеро.
— Ну, вот, — недовольно покачал головой начальник флота. — Жена рыбака и не отличаешь морскую рыбу от пресноводной. Обидно, все-таки.
Анфиса Ивановна отставила тарелку, усмехнулась.
— Ты тоже не различаешь, где болгарский крест, а где гладь. Однако, я не виню тебя за это трагическое незнание вышивки.
— Это разные вещи, Фиса. Вышивка — досуг, а рыба — моя работа. Если б семью кормила вышивка, я бы знал ее. Можешь поверить.
— Ну, не ворчи, — примирительно сказала Анфиса Ивановна. — Налей мне еще немного вина.
Татьяна Петровна расставляла перед гостями тарелки со вторым. Молоденькая женщина, сидевшая рядом с Павлом, ожидая свою тарелку, медленно тянула из рюмки вино.
«Они поженились совсем недавно, — думал Павел об Ираклии Григорьевиче и Анфисе. Мирцхулава вдвое старше жены. Кажется, они не насмерть влюблены. Но может, так надо вести себя в гостях?»
— Вы родственник Прокофия Ильича? — услышал он тихий вопрос.
— Нет, — тоже почему-то переходя на шепот, ответил Павел. — Я посторонний.
И тотчас почувствовал, что употребил не то слово.
— А-а… — протянула Анфиса Ивановна и повернулась к Прокофию Ильичу. — Когда я пришла, вы казнили мещан и толковали о высокой любви. Это все-таки интересней рыбы.
— Анфиса Ивановна, — сказала Люся, — вы должны меня поддержать. Мне кажется, папа слишком прозаически относится к любви. И ваш муж тоже.
— В чем дело? — откликнулась немного захмелевшая женщина. — Сейчас мы пустим наших мужчин ко дну. Кайтесь, злодеи.
— Нам не в чем каяться, Фиса, — пожал плечами Прокофий Ильич. — Я полагаю: у любви, как и у жизни, свои возрасты. Любовь-песня и любовь-пламя до белых волос — не столько область жизни, сколько поэзии. У пожилых людей свои радости. Может, в них больше ума, чем чувства… Не знаю. Но это — хорошие радости.
— Нет, ты не прав, папа. А как же Петрарка и Лаура? А Данте? Его неугасимая любовь к Беатриче, любовь до самой смерти?
— Похвально, Люся, что ты знаешь историю поэзии и ее певцов. Но примеры не те. У Беатриче был муж — не Данте. И у поэта была другая жена. Беатриче была для Данта не столько человек во плоти и крови, сколько идеальный образ женщины. Он никогда не был близок с ней. И о Петрарке с Лаурой можно сказать почти то же. Мы говорили о другой любви. О той, что ведет к супружеству.
— Но ты не станешь отрицать, папа, что «огонь любви» и «пламя страсти» — очень точные фразы? — не сдалась девушка, украдкой взглянув на Павла и догадавшись, что он поддерживает ее.
— Не стану отрицать, хотя сильно подозреваю, что твоя убежденность не покоится на личном опыте. Что ж — пламя, так пламя. Но раз огонь — значит, грубо говоря, — дрова. И очень важно — какое топливо? Если это щепки и сор, то первый же ливень сделает из твоей любви грязную лужу. У сибиряков есть костры, которые зовутся «нодья». Их делают из цельных смоляных бревен. Такие костры непогода раздувает только сильнее.
— Хорошо, я буду рубить бревна, а ты стирай белье, — вмешалась Татьяна Петровна.
— Зачем же воевать с ветряными мельницами, Таня. Стирать белье скучно и неприятно. Впрочем, солить рыбу на траулере, в штормовом море — тоже не веселое занятие.
Он живо обернулся к жене, убиравшей столовую посуду, спросил:
— Ты никогда не фантазировала, Таня, какой будет семья в век будничных космических полетов. Нет, космос тут, вероятно, ни при чем. Я говорю о веке коммунизма.
— Долой кухню, долой стирку, долой базар! — почти с вызовом бросила Татьяна Петровна. — И тогда я не спутаю белуху с белугой, Прокофий Ильич.