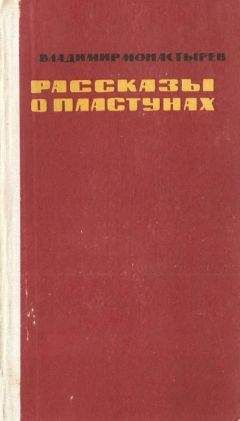Пашня под ногами прежняя, а идти становится легче. Василий думает, что это — кажущееся облегчение, вот сейчас оно сменится окончательной, свинцовой усталостью. Но окончательная усталость не приходит. Роща приближается, и Василий, ободрясь, смотрит на Асатурьяна.
— Как идем, Миша?
— Хорошо идем, — хрипит Миша и поднимает на Василия глубоко запавшие, но все-таки веселые, черные, как переспелая вишня, глаза.
В роще чисто и не очень сыро, ее будто прибрала заботливая хозяйка. Осень смахнула с деревьев последние листья и выстелила ими землю. Опавшая листва то мягко шуршит под ногами, то влажно всхлипывает. Друзья выбирают место посуше и садятся отдыхать. Асатурьян привалился к дереву, прикрыл глаза.
— Если бы не ты, Вася, — вдруг говорит он, — я бы не дошел, сел бы прямо в грязь отдыхать.
Василий смотрит на товарища. Тот открывает глаза и кивает головой.
— Правду говорю, мне очень хотелось присесть, но вижу — ты идешь, и мне стыдно об отдыхе говорить. Так и дошел.
Прохоров полулежит, опершись на локоть. Он поднимает сухой лист, вертит его в пальцах, усмехается.
— Значит, ты за мной тянулся?
— За тобой, — подтверждает Миша.
— А я тебе завидовал, — говорит Василий. — Мне казалось, что идти больше не смогу, а ты — идешь, ну, и я из последних сил стараюсь… Это там, примерно на середине поля. Потом ничего, обошлось.
Оба смеются и говорят:
— Здорово!
Василий радуется этой маленькой победе: он сумел одолеть свою слабость, и, оказывается, не только он у товарища, но и товарищ у него занимал душевных сил.
— Сержант идет, — говорит Асатурьян.
Василий поднимается навстречу командиру отделения. Встретив его на опушке, докладывает о выполнении задания. Говорит он взволнованно, с жестикуляцией. Командир слушает, чуть нагнув голову, карие глаза из-под приспущенных век смотрят внимательно.
— Не размахивайте руками, — вдруг говорит он.
Василий опустил руки и умолк. Настроение испортилось, шевельнулась в душе обида на сержанта…
Прохоров смотрит, как ветка акации неслышно царапает своими колючками по стеклу, и думает, что вот он тогда обиделся на командира, а сегодня сам сделал солдату такое же замечание. И нельзя было не сделать: какой же сержант промолчит, когда солдат у него перед носом руками разводит.
И Мягких, наверное, обиделся. Шел он, старался — не так просто ему строй дается. Потом благодарность им объявили, пришел в казарму довольный, на душе у него было светло, сегодня он тоже свою маленькую победу одержал и гордился ею.
Прохоров сел на койке, осторожно обул сапоги и, стараясь шагать неслышно, подошел к постели Мягких. Солдат спал, уткнув нос в подушку, и сержанту показалось, что бровь, которая видна, у него сурово сдвинута к переносью. «Обиделся», — окончательно решил Василий.
А рядом, разметавшись, выставив смуглую шею с острым кадыком, спал Барабин. Одеяло у него сползло одним концом на пол. Сержант поправил одеяло, постоял, глядя на спящего. «Надо было его сегодня наказать, — упрекнул себя Прохоров, — прямо там, на занятиях». Но тут же, как и днем, усомнился: «А надо ли было наказывать?» Сейчас, как и тогда, мешала строго оценить случившееся симпатия к этому веселому солдату.
Сержант открыл дверь в коридор, снял с вешалки свою шинель и, набросив ее на плечи, вышел на улицу. Когда проходил мимо дневального, тот подтянулся и стал «смирно». «Командира во мне видит, — подумал Прохоров, — а командир-то из меня что-то не получается, не просто, оказывается, людьми командовать…»
На пороге, куря папиросу, стоял старшина Звягин.
— Почему не спите, товарищ Прохоров? — спросил он.
Сержант, зябко кутаясь в шинель, и, глядя в темноту, ответил:
— Не спится что-то, товарищ старшина.
Звягин помолчал, подымил папиросой и задал вопрос:
— Трудно?
Прохоров взглянул ему в лицо и, опустив голову, сказал:
— Трудно… Оказывается, нелегко людьми командовать.
— Нелегко, — согласился старшина.
Они вместе, не сговариваясь, присели на порог. Прохоров подумал, что Звягин сейчас напомнит ему про носы, но старшина не вспомнил об этом.
— Спервоначалу всем трудно, не ты первый, не ты последний, — сказал он, переходя на «ты». — Дуракам только все легко и просто кажется. Я к тебе приглядываюсь и думаю, что ты — не дурак. Только плохо, что все хочешь сам, один решать. Ты к людям, которые постарше тебя, за советом пойди, до начальника карантина обратись. Ты не смотри, что он на вид строгий, он душевный человек. Ко мне приходи, чем сумею — помогу.
Папироса у старшины погасла. Он достал спички и раскурил ее. Василий опять поежился. Ветер утих, но сверху опускался плотный серый туман. Слабая лампочка, висевшая над входом в казарму, совсем потускнела, стала матовой. Паровозные гудки со станции доносились все глуше, точно вязли в тумане.
Полчаса тому назад Прохоров никому бы не сказал о своих сомнениях, а сейчас ему очень захотелось поделиться ими со старшиной, и он все рассказал ему.
— Надо было обоим внушение сделать, — выслушав, заметил Звягин, — и Барабину, и Ващенко. В уставе-то как записано? Не оставлять без воздействия ни одного проступка, — старшина поднял указательный палец и многозначительно покачал им. — Наказывать, конечно, не обязательно, это уж в крайнем случае, но без внимания нарушения оставлять нельзя. А ты оставил, как бы мимо прошел… Ты говоришь, Барабин и солдат исправный и парень хороший. Может быть, оно и так. Это тебе плюс, что умеешь в людях хорошее видеть. Только за хорошее плохое прощать нельзя, не имеешь на то права, потому что командир обязан в солдатах хорошее поощрять, а плохое — изничтожать, — и Звягин рубанул воздух ладонью.
Справа, должно быть у штаба, послышались четкие шаги, они приближались, становились громче.
— Нарушаем мы… — сказал старшина, вставая. — Спать тебе надо, сержант, иди, иди…
6
Ващенко беспомощно висел на турнике, ноги у него слегка покачивались, как привязанные.
— Ну, ну, подтягивайтесь, — подбадривал его Прохоров и даже помог солдату подтянуться на перекладине, но из этого тоже ничего не получалось. Ващенко делал вид, что старается, а у него не выходит, однако сержант отлично понимал, что солдат хитрит.
Прохоров отошел, и Ващенко тяжело спрыгнул на землю. Сержант почувствовал, как поднимается в нем раздражение против солдата. С этим Ващенко сплошные неприятности. Он хитрит, лодырничает, отлынивает от работы. Отделение было в наряде на кухне, Ващенко забрался в хлеборезку и уснул там под столом, потом съел миску горохового концентрата, и его пришлось отправить в санчасть. Утром и после мертвого часа он одевается медленней всех, опаздывает в строй, на занятиях по физической подготовке прикидывается совсем немощным. Когда Прохоров начинает стыдить его, он принимает унылый вид и молчит.
Вот и сейчас он стоит ссутулясь, уныло глядя в землю.
— Станьте как следует.
Ващенко выпрямился, поднял голову, но смотрит все равно мимо Прохорова. Глаза у него коричневые, круглые, в них можно прочесть упрямое безразличие ко всему, что здесь происходит, к тому, что сейчас скажет и сделает стоящий против него сержант.
Стараясь подавить раздражение, Прохоров сказал:
— По физо вы хуже всех занимаетесь, Ващенко. Тянете назад все отделение. Мягких тоже нелегко даются занятия, но он старается, а вы — нет…
Солдат молчал. И это молчание раздражает сержанта еще больше.
— Что вы молчите? — повысил он голос.
Ващенко сморгнул, в глазах у него мелькнуло осмысленное выражение, но тотчас исчезло.
— Не умею я, — ответил он.
Прохорову захотелось крикнуть: «Врешь, лодырь ты, работы не любишь, труда боишься…», но он не крикнул, а только сжал и разжал кулаки и произнес сквозь зубы:
— Вечером будете заниматься отдельно… Я сам буду с вами заниматься.
Перед ужином, когда все отдыхали, занимаясь своими личными делами, Прохоров и Ващенко отправились в спортгородок. Солдат опять беспомощно болтался на турнике, мешком проваливался между брусьями, неуклюже бросался на коня и, не перепрыгнув его, а сев на снаряд верхом, медленно, боком сползал на землю. Все это он делал лениво, безразлично, вид его словно говорил сержанту: «Давай, давай, усердствуй, я посмотрю, надолго ли у тебя хватит терпения, наверное, ненадолго, утомишься и оставишь меня в покое…»
Но Прохоров набрался терпения, довел-таки солдата до того, что он вспотел и один раз перепрыгнул через снаряд.
— Когда захотите, можете, — заметил сержант.
Солдат промолчал, только вздохнул и нахмурился еще больше.
Когда они возвращались в казарму, Прохоров размышлял о том, какие все-таки люди разные. Вот, к примеру, Мягких и Ващенко — оба колхозники, чуть ли не земляки, работали до армии будто в одинаковых условиях, а общего между ними почти ничего и нет. Мягких — старательный, исполнительный, доброжелательный к людям человек. Ващенко — угрюм, ленив, с товарищами живет плохо. Раньше Прохоров жил с людьми на одних правах, и разность их характеров не очень трогала его — с хорошим парнем можно было подружить, а если не нравился ему человек, можно было держаться от него поодаль. А теперь он командир и должен одинаково работать со всеми солдатами в отделении — и с теми, которые ему нравятся, и с такими вот, как Ващенко»