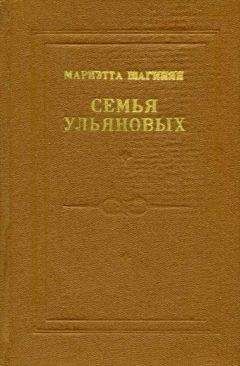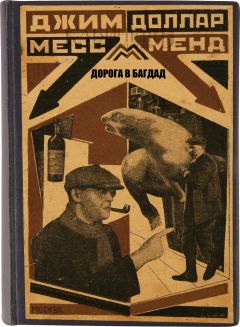— Мочи моей нет, — стонал какой-то купчик, без конца прикладываясь к теплому квасу и тут же его сплевывая, — глаза слепнут.
И в самом деле, то ли от испарений, то ли от преломления лучей солнца, над Волгой стояло марево, сизая муть какая-то, словно люди смотрели сквозь запотелые стекла.
— Если такая температура в начале июля, что же будет в разгар лета? — недоумевал помещик в чесуче и соломенной шляпе, обращаясь к публике на корме.
— Сгорит, все сгорит, дочиста сгорит, — вздыхали на нижней палубе.
Бывают такие минуты, когда человек, по горло увлеченный своей работой, вдруг, оторвавшись от нее, оглядывается, словно впервые в чужую страну попал. Все вокруг, самый пустой разговор, пустейшее обстоятельство какое-нибудь, интересует и останавливает его, словно строчка, набранная курсивом. Садясь на пароход, Ульянов думал, что заляжет до Казани спать и отоспится за все последние бессонные ночи. Но сна не было ни в одном глазу. Какое-то подъемное, по-детски беспричинно-радостное состояние охватило его, и он бегал с кормы в каюту, с верхней на нижнюю палубу, обмахиваясь посеревшим от пыли платком, вытирая бисеринки пота со щек, с лысинки, поблескивая добрыми карими глазами, — и ко всему прислушивался, на все смотрел как бы внове, — и это оказывалось для него лучшим отдыхом, нежели сон. Илья Николаевич словно из воды вылез, — из воды своих слитных, непрерывных дел, не дававших ни задуматься о чем-нибудь другом, ни увидеть другое что-либо, а сейчас, выйдя на бережок, отряхивался от брызг, обсушался, начинал глядеть на окружающее.
Впервые, услыша фразу на нижней палубе, задумался об этой неслыханной жаре, — возможной засухе, — и тогда опять бедствие неурожая, голод. В разъездах его по Курмышским болотам и лесным дебрям об этом разговору еще не велось. Впервые, — а может, успел за недосугом позабыть, — с необычайной остротой воспринял он и спор в кают-компании о многолетнем «истоминском» деле. Начался он с того, что сонный купчик помянул воров, — мол, в этакую жарищу любой вор стянет у него из-под носа, что хочет, а он не то чтобы не заметит, — сил у него не хватит заметить и шелохнуться. Кто-то подхватил: смотря какой вор, иной и сам сейчас не шелохнется… «Вот заграничные гастролеры, — вступил третий в беседу, — феноменальные воры, фокусники! В Париже один раз…» — «Э, нет, — внезапно оживился купчик, — против русского жулика иностранный из пеленок не вышел!» И, сплюнув на пол теплый квас, оживший патриот русского жульничества припомнил Истомина. И тут речь зашла о знаменитом на всю Россию, названном по имени главного виновника, «истоминском процессе», тянувшемся чуть ли не все эти годы после падения крепостного права. Вся скрытая ирония этого процесса, — инфернальная ирония, как выразился бы мистик, — осталась почему-то за пределами большого искусства, а ведь могла бы оплодотворить его не хуже ревизских сказок, где умершие числились в живых до новой ревизии, — что не ускользнуло от зорких глаз Пушкина и Гоголя. Тут тоже была своя закавыка, основанная на несовпадении движения времени в двух больших системах: в человеческой жизни и в государственной бюрократии. Тотчас же после своего освобождения дворовый крестьянин сделался — как бы это сказать? — в своем роде незаконно пребывающим на земле, то есть, встал перед необходимостью бумажного самоопределенья. И раньше, до этого, ремесленнику, определяясь в городе, нужно было приписаться к цеховому обществу. А сейчас масса освобожденного народу хлынула приписываться. Но не такой это легкий фокус — «приписаться». Необъятных усилий великой литературы русской, целой эпохи могучей деятельности ее, напряженья российских государственных умов, не говоря уж о царском рескрипте, рождавшемся примерно так долго, как в сказке кладет свое яйцо мифическая птица Рокк, — потребовалось для того, чтоб освободить крестьян из рабства. Но вот рабство пало. И оказывается — время опять потребовалось и еще кое-что, кроме времени, — чтоб многих и многих из «освободившихся» прикрепить к положению в государстве, то есть оформить бумажной магией в праве их трудиться руками своими, а иначе говоря — дать им право на «состояние». Состояние в таком-то цеху, в таком-то сословии… А не состоя нигде, не окажется ли освобожденный, как бы чересчур уж, хлопотно и противозаконно даже, самостоятельным перед лицом начальства?
Приписываться к цеховому обществу в Москве было, конечно, куда труднее, чем в губернских городах меньшего масштаба. В начале пятидесятых годов в московскую цеховую управу поступил повытчиком четырех самых больших цехов некто Истомин, человек сам по себе мелкий, но сообразительный. Он стал хозяином множества пустых бланков и приемных свидетельств и начал оглядываться. Времена были необыкновенные, умному человеку так и слышалось в полете их «не зевай!». Тысячи дворовых крестьян, получив «увольнительные акты из крепостного состояния», должны были приписаться к другим состояньям, к городскому мещанству. И хотя к московскому мещанству приписываться было труднее и стоило дороже, эти тысячи ринулись в Москву, как на главную арену их отхожего промысла в прежнем крепостном состоянии.
Истомин сидел в собственной канцелярии, возглавляя не только своих писарей. Путь от человека к человеку короче беспроволочного телеграфа, когда надо пустить нужный делу слушок, — и к его писарям прибавились управские писаря, управские сторожа и даже деревенские старосты. В эпоху, когда бумаги двигались неделями из комнаты в комнату, слух пошел о добром повытчике, который не задержит и секунды. Только входи. И пошли народы к Истомину, а он даже кланяться в ноги не позволял. Все по закону. Приписка к московскому мещанскому цеху стоила 25 рублей — и он вежливо требовал эти 25 рублей, ни копейки больше. Если наученный житейским опытом мужик пытался подложить ему под бумагу полтинник или четвертак, бледное лицо Истомина вспыхивало, брови поднимались, орлиный взор загорался гневом, и весь он походил на того самого удивительного чиновника, которого фотографы снимали во весь рост, с перстом правой руки, лежавшим на раскрытой странице, где большими буквами было начертано «Честность». Начальство, в глубине души поражаясь, нахвалиться не могло Истоминым. Мужики смотрели на него, как на заступника-милостивца. Деньги от приписки текли в казну и законно оформлялись казначеями, и царская казна тоже была довольна. Поговаривали, что потрясающий случай такой честности не должен остаться без награды, как пример прочим российским чиновникам…
Но тут заметили, что управские писаря, сторожа и про чий мелкий люд, ходатаями слывшие у мужиков, кутят совсем не по средствам в дорогой ресторации Воронина, славившейся своими непревзойденными блинами. Перевели взгляд на Истомина и увидели, что повытчик, гордо отказывавшийся от мзды, завел коляску и купил дачу. Грянула ревизия — и не нашла ну ничего, положительно ничего, ни булавки, ни даже булавочной головки, — все белым-бело, как девственный снег, было в бумагах: за каждую приписку деньги поступали полностью в царскую казну.
— Здесь нужен был сыщик заграничного покроя! — восхищался купчик, покуда его слушатели на разные голоса, возобновляя в памяти эту историю, добавляли к ней от себя живописные детали. — Наши, кого ни посылали, становились в тупик. Тайна, да и только. Подобно Библии: тайна сия велика есть… или как оно там? И ведь годы, — годы не могли разобраться!
Истина открылась сразу, и тут вдруг все стало ясно, как дважды два — четыре, в своей воистину гениальной простоте: да, царская казна получила сполна за приписавшихся к мещанству тысячу с лишним человек. Но цехи московской управы переполнились приписавшимися, — их оказалось свыше семи тысяч… Более пяти тысяч человек получили за ту же законную плату в 25 рублей — фальшивую приписку. Собственно, внешне это был такой же бланк, заполненный тем же Истоминым, но только не внесенный в бумагу. И как начали разбираться, чуть голову не потеряли на этом деле, ну совсем как Чичиков над мертвецами Собакевича, — «но позвольте, он же в некотором роде не существующий…» — «А чего стоят живые?» Пока разбирались в несчастных мнимо приписанных пяти тысячах, Истомин и бежать успел, и выловлен был, и в тюрьму посажен, и опять уже выдан на поруки…
С купчиком в кают-компании сидело много народу и по мере рассказа набилось еще больше. Возле Ильи Николаевича сидел знакомый ему учитель, слывший у себя в уезде философом. Он был из духовного звания, по фамилии Назаретский. Пока публика, слушая, заливалась хохотом, он сказал Ульянову:
— Типичный пример, когда жизнь в государстве опережает свою государственную бюрократию. Прежде чем крестьян освободить, надо было пересмотреть наши чиновничьи порядки, создать нумерацию на бланках, контроль над ними, вообще реформировать управление, подготовить его к новым житейским фактам.