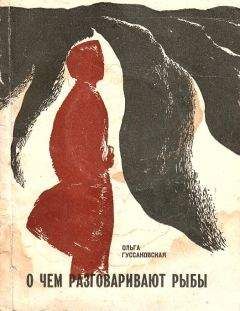Странный мамин взгляд. Вспомнив о нем, Володя уже не мог его забыть, и на душе кошки заскребли, словно он сделал что-то нехорошее. Но что? Он оглянулся. Мужчины за столом разговаривали о своем. А мама? Нет, конечно, он любит ее, это же мама. Но… помнил ли он о ней всегда? Может быть, и он думал только о своем?
Корабли Беллинсгаузена пробивались к Антарктиде, удивительным запахом гвоздичных деревьев встречали русских моряков острова Пряностей. Запах этот вел их в океане… Он видел все это, он сам был с ними, но… всегда только он один!
Володя вспомнил. Придя из ванны, все еще пахнущая мыльной пеной после стирки, мама присела на диван:
«И о чем ты все читаешь, сынок? Хоть бы рассказал».
Капитаны оставляли женщин на земле, о них почти и не упоминалось в книгах — разве изредка, случайно. Что им было до таинственных ненайденных островов?
Он отложил книжку:
«Ты этого не поймешь, мама».
Ну как еще мог ответить женщине настоящий капитан?
Мама ушла, посмотрев тем самым взглядом. Только сейчас, далеко от нее, на подоконнике чужого дома, Володя понял, что было в нем: глубокая обида. Он часто обижал маму и не понимал этого.
Город на горизонте все больше дрожал, расплывался — по щекам Володи одна за другой сползали слезы. Он не видел, как пришел радист. А когда его спросили, что же все-таки передать, ответил тихо:
— Передайте, что плитку я выключил и… что я прочитаю ей все свои книжки, если она захочет.
Возвращались они берегом, по отливу. На сыром песке оставались глубокие следы, полные темной воды, а под легкими птичьими крестиками песок только слегка белел. Солнце неожиданно осветило серый обрыв, который тогда, в первый раз, показался Володе мертвым. Теперь он увидел, что из каждой трещины на нем поднимался какой-нибудь цветок. То желтая рябинка, то сквозные белые лисьи хвостики, то голубая герань. А по камням, где уже никак не могли удержаться цветы, ползли камнеломки — зеленые, красноватые, бурые. Весь обрыв цвел.
— А… капитаны могут скучать по дому? — вдруг спросил Володя.
— Еще как! — серьезно ответил Василий Геннадиевич. — На земле и не знают такой тоски. Только море они любят еще сильнее. Как твой отец любил. Мы вместе с ним плавали, и в одну путину море с нами посчиталось. Он не вернулся, а я на всю жизнь сухопутный капитан.
— Вы знали папу?! И не сказали!
— Не приходилось пока. Всякому слову свой срок. А вот теперь сказал.
Лицо у Василия Геннадиевича стало таким понимающе добрым, что Володя почувствовал: ему и надо рассказать все. И действительно рассказал — и про маму, и про дядю Сашу, и про себя — как сумел. Только так и не помянул про острогу: удержала все та же боязнь беды.
Они уже сворачивали к знакомому ключику. Солнце просвечивало воду до дна, и было видно, как между камней бродят небольшие рыбки. Сверху они казались серыми и плоскими, а плавники торчали в стороны, как весла. Вот одна ухватила что-то, и сейчас же к ней кинулись другие. Облачко перебаламученного песка скрыло всех.
— А почему ты думаешь, что дядя Саша плохой человек?
Володя остановился. Для него самого это было так ясно, что он никогда и не задумывался почему.
— Он… он… хвастается много. — Володя беспомощно оглянулся: слова не находились. Нужно было сказать что-то одно и такое, чтобы сразу все стало ясно. Вот если бы про острогу…
— Ну, хвастается — беда не велика. Моряки мастера заливать. Всякому хочется большого моря. А если не повезло, если судьба в луже оставила? Бывает такое и с хорошими людьми. Вот и хвастается человек. Ну, а еще что?
Володя молчал. Ниточка доверия, протянувшаяся между ними, порвалась. Если уж говорить, то все. А что тогда будет с мамой?
— Ты, поди, сердишься, что он к матери твоей ходит? Так ведь? — продолжал Василий Геннадиевич, — Но это зря. Ты уже не маленький, должен понимать, что у тебя своя, мужская жизнь впереди и мать повсюду ты с собой не возьмешь.
— Возьму! Всюду возьму! — вырвалось у Володи.
— И в армию? И в институт? Ерунду говоришь. А теперь подумай: каково ей одной будет век доживать? Какой бы человек ни был твой дядя Саша, а все ей с ним легче жить будет. Глядишь, и позаботится, когда тебя рядом не случится.
Володя призадумался. В словах Василия Геннадиевича была какая-то новая, неожиданная правда. Он ведь и действительно никогда всерьез не задумывался о мамином будущем. Мечтал о том, что станет с ним самим, и лишь изредка, мельком находил в этих мечтах место и для мамы. Мир приобретал все большую сложность. Как разобраться в нем? Надо думать и думать.
Василий Геннадиевич, видимо, понял Володино настроение и не стал продолжать разговор.
4
Причал был неказистый. Четыре сваи в коричневой шкуре из ракушек и морских желудей, и на них хлипкий дощатый настил. Белый, нарядный катер Гаврилыча сторонился такого неприличия, туго натянув причальный канат.
Мальчики с рассвета сидели на причале, поглядывая на катер. Геннадию Васильевичу пришла чудесная мысль: пусть Гаврилыч прокатит их до Соляного, он ведь пойдет мимо. А оттуда они вернутся маленьким катером, что ежедневно привозит на остров хлеб и молоко. Соляный — большой рыбацкий поселок, там интересно. Василий Геннадиевич не возражал, только велел вернуться в тот же день. А Гаврилыч явно не торопился. Уже и солнце давно оторвалось от гребня сопки, и тени ушли с берега, а его все не было.
От нечего делать мальчики стали высматривать на берегу занимательные вещи, оставленные приливом. Геннадий Васильевич похвастался, что однажды («Ей-богу, не вру!») нашел настоящий морской компас. Но Володя ему не поверил.
Сегодня море не оставило на берегу ничего интересного. Размытый обрывок чалки, сломанный ящик, бутылку из-под шампанского. Все это даже не стоило осмотра. Коричневые мордатые бычки, пупырчатые морские звезды и прочий морской хлам вообще не шли в счет…
Володе уже совсем надоело бродить по берегу, когда со стороны метеостанции наконец-то показался Гаврилыч. Утром его огромная фигура выглядела еще внушительнее. Глаза вовсе утонули в мякоти щек, а нос подозрительно покраснел, но шел он важно и спокойно. Следом плелась и его команда: двое ленивых заспанных парней. Еще одна всклокоченная голова высунулась из кубрика и снова исчезла. Минуту спустя мотор катера чихнул и застучал с перебоями, словно пробуя голос и прислушиваясь, как получается.
— Иван Гаврилыч, а мы к вам, — выступил навстречу капитану Геннадий Васильевич.
— Знаю, что ко мне, но… тю-тю, ничего не выйдет, юнги, — покачал головой Гаврилыч.
— Как — не выйдет? А папа сказал…
— Папа сказал, а начальник приказал. Меняю маршрут. Наше дело такое: куда прикажут, туда и топаем. А вы не вешайте носов, юнги! Еще встретимся! Привет родителям!
И, очень довольный всем на свете, Гаврилыч ступил на причал. Доски прогнулись под ним с жалобным писком, от свай побежала рябь. Через минуту катер уже отошел от явно надоевшего ему причала и начал разворачиваться, оставляя за собой широкую дугу.
Мальчики проводили его глазами. Впереди целый день, на который не придумано заранее никакого занятия.
— Хорошо покатались, — сказал Володя. — Вредный он, этот Гаврилыч, вот и все.
— Да не вредный, он меня катал раньше. А раз приказ — так что? — Геннадий Васильевич провожал глазами катер. — Может, на птичий базар пойдем?
— Да ну их, этих птиц. Ладно, пойдем, — скрепя сердце согласился Володя. Он еще помнил, как его били по голове и плечам тугие, сильные крылья. Но раз Геннадий Васильевич не боялся птиц, Володе тоже не хотелось выглядеть трусом.
Однако до птичьего базара они не дошли. По дороге на взгорье, где и кусты-то никакие не росли, встретилось поле спелой морошки и голубики. Морошка оставила себе только два листика, а между ними выращивала одну-единственную, но крупную желтую ягоду. Голубика стлалась по земле между камней, прячась от ветра за их ребрами. Сизые длинные ягоды лежали на земле. Оторваться от ягод было просто невозможно. Только оберешь один кустик голубики, а на другом ягоды еще крупнее. Мальчики ползали между камней и сухих веток стланика, похожих на сброшенные оленьи рога. Руки посинели от ягоды — не отмыть, а голубики все не становилось меньше.
«Наконец Володе это просто надоело. Он сел на камень и оглянулся, словно отыскивая что-то.
Он не мог бы сказать, в чем дело, только все в этот день казалось ему странным, не таким, как всегда. Небо затянула еле видимая дымка, и солнце висело желтым кругом почти без лучей. Изменились тени, а от них и давно знакомые камни и деревья. Все стало резче, отчетливее и — не поймешь почему — тоскливее. Вот и ягода надоела, и на птичий базар идти не хочется, а впереди еще много времени. И тихо стало как-то удивительно. Молчат кусты, бурундуки, даже море. Вся бухта сверху как блюдце с подкрашенной голубой водицей. Сбившись островками, белеют на воде чайки — им надоело летать.