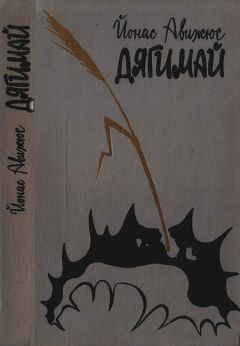«Я ненасытная, — укоряла она себя, вспоминая свой недавний приход к Стиртам. — Кое-кому всевышний швырнет кроху, и они довольны, а у меня в руке не кроха, а целая краюха, и я еще жалуюсь, что масла пожалели, слишком тонко намазали». Ей вдруг показалось, что она все еще стоит в светлой, но захламленной Стиртиной комнате, уставленной незастеленными кроватями, между которыми валялись какие-то игрушки, а на спинках стульев серела чья-то одежда.
Бируте Стиртене, вошедшая вслед за гостьей, густо покраснела и виновато залопотала:
— Есть у нас и поприличней комната… Милости просим. — Хозяйка упрямо толкала Габриеле к двери: — Все у нас поломано, раскидано, смято, и все из-за этой непролазной работы… Заходите сюда, учительница. Садитесь.
Габриеле послушно села за большой круглый стол с шестью стульями. Комната, видать, предназначалась для гостей, но по углам торчали какие-то баулы, огромная корзина и несколько эмалированных ведер, должно быть, с топленым жиром или с вареньем. Пол был грязен, с крупными пятнами от чьих-то следов, хотя, судя по редким чистым островкам, его недавно мыли.
— Хорошая комната, — сказала Габриеле, глядя на окна.
— Всего у нас четыре, не считая кухни… Спасибо председателю — колхоз дом построил. Правда, мы немного задолжали, но расплатимся…
— И центральное отопление есть? — пропела Габриеле, заметив за обвисшими занавесками гармошку радиатора.
— Местное, но не бог весть что, — пояснила Стиртене. — Пока плиту топим, тепло. Но все-таки с печным не сравнишь. Хороший дом, что и говорить.
— Вам такой и нужен. Ведь вас много…
— Как же… Детей семеро да мы с мужем… А скоро и прибавление, — Бируте Стиртене погладила живот и застенчиво улыбнулась, словно прося прощения за такой необдуманный шаг — хватило бы, мол, и семерых.
Габриеле хотела спросить у Бируте, где муж, но вовремя спохватилась: через открытую дверь увидела в другой комнате человека, растянувшегося в резиновых сапогах на потертом диване.
— Прилег, бедняга, — выдохнула Бируте, поймав настороженный взгляд гостьи, и тут же прикрыла дверь. — С шести часов утра на ногах. Пока накормишь телят, придешь с фермы, уже одиннадцать, и к своей скотине: корову подои, свиньям корма задай… Пока поешь, пока какую-нибудь мелочь по дому сделаешь, глядишь, и обедать пора. Снова ферма, снова своя готовка. И так с утра до вечера крутишься как белка в колесе. А Пранюс, тот корма возит…
— Но на ваших плечах семеро детей! — не стерпела Габриеле, возмущенная снисходительностью Стиртене.
— Они друг за дружкой присматривают, учительница. А самый старший нам с мужем помогает, за телятами ухаживает. Нет, у меня с детьми никакой беды нет, все уже самостоятельные, если не считать малышей…
— Они плохо учатся. Пропускают уроки.
— Не из распущенности, учительница, по надобности пропускают.
— Знаю, что по надобности, — согласилась Габриеле, чувствуя свое полное бессилие. — Но родители в первую очередь должны заботиться о том, чтобы их дети получили образование. В этом их будущее. Неужели оно вас не беспокоит?
— Беспокоит, каждую мать беспокоит. Но стоит ли стараться, чтобы все дети профессорами стали? А может, они сами не хотят? Зачем же их учить насильно? Пусть в колхозе работают, телят кормят, как и мы с отцом… В жизни всякие люди нужны. Посмотрим — может, младшенький будет способнее к наукам?
— Не будет, если вы не измените своего отношения к учебе, — откровенно сказала Стропене. — Для того чтобы дети учились, нужны условия. Вы их создаете?
Стиртене защитилась от ее холодных нравоучений застенчивой улыбкой, ничего не ответила, но растерянный взгляд как бы говорил: «А мне? Кто создал условия мне?»
«И плохо, что не создали. Не была бы такой неудачницей», — ответила она Стиртене взглядом и встала со стула. Габриеле знала, что это бестактно, но женское любопытство взяло верх над достоинством, и, выдержав паузу, она спросила:
— Вы, наверно, очень любите своего мужа, если нарожали столько детей?
— Вы думаете — дети только от любви?.. — ответила вопросом на вопрос Стиртене, удивленная ее простодушием.
— А как же иначе?
— Может, оно и так… Но что это за штука — любовь, право, не знаю… Просто не думала…
— Неужто вы никогда не любили?
— Почему? Детей любила и люблю. Потому-то они и погодки… Сердце замирает, когда прижмешь к груди теплый, нежный комочек. И мне хватает… такой любви… Спросите, почему пошла за Стирту? — Она помолчала и добавила: — Не хотела в старых девах остаться. И детей хотела… Да и Пранас в ту пору так зверски не пил. Ну, я и пошла за него, не привередничая и наперед зная, что не золото мне привалило…
— Я сама мать. Я знаю, как много значит любовь к своему ребенку… Но кроме любви к детям есть…
— Ничего, кроме нее нет, — сказала Стиртене.
— Есть, — повторила Габриеле и почему-то покраснела.
То ли она вдруг устыдилась своих заскорузлых назиданий, то ли Стиртене обидела ее своей непреклонностью, сказав горькую для нее правду и не уступив.
— Для полного счастья, — промолвила Габриеле, — надо, чтобы и тебя любили.
— Меня дети любят, учительница.
— И вы их, Стиртене, любите, — перевела она слова хозяйки в повелительное наклонение. — Только не на словах, не прижиманиями к груди. Создаете ли вы им нормальные условия для учебы?
— Да ну вас, — обиделась Стиртене. — Вам легко говорить. Будь вы на моем месте…
— На вашем месте, — посуровела Габриеле, — я бы в первую очередь подумала перед тем, как подарить жизнь еще одному… У вас нет чувства ответственности, Стиртене, — выпалила Габриеле и шагнула в дверь, даже не прислушавшись к сердитому бормотанию хозяйки.
Посещение Стиртов так запало в душу, что она еще долго вспоминала о нем.
Поэтому и сейчас, возвращаясь по деревенской улице домой, Стропене вспомнила грязную комнату, уставленную незастеленными кроватями, и мужчину в резиновых сапогах, лежавшего на потертом диване. Всех детей Габриеле тогда не видела, вокруг бродили только младшенькие и их нянька — восьмилетняя девочка с тупым выражением лица. В деревне поговаривали, будто у нее не все дома… Несчастная семья… Несчастная мать… Проклятый пьяница-отец… И эта обделенная судьбой, обездоленная женщина еще находит в себе силы смеяться, защищать мужа, гордиться своей материнской любовью… Вряд ли осознает, как она несчастна!
Габриеле уже не идет, а бежит. Ей кажется, что, опоздай она хоть на минуту, случится что-то непоправимое, о чем придется жалеть и жалеть, может быть, всю жизнь. «Господи, какая я дура… какая дура!» — шепчет она, ничего вокруг не видя, кроме трехэтажного замка из жженого кирпича, замка, построенного для всех бывших, нынешних и будущих председателей. Кроме просторных светлых комнат и усталого Андрюса на белой подушке. «Только бы он не проснулся и не ушел… только бы не ушел…»
Стропус спит.
Вспомнила о его любимом блюде — картофельных оладьях со сметаной. Габриеле бросается готовить. Трет картошку, смешивает с яйцом, а когда Стропус просыпается, оладьи готовы: только подноси к кровати.
Он дивится ее расторопности и рвению. Давно такого в доме не было, давно.
Андрюс добродушно посмеивается над ее услужливостью, а она наивно верит, что эти ее хлопоты если и не преобразят его, то во всяком случае возымеют какое-то действие. Стропус прячет усмешку, умеряет свою прыть, и им так хорошо, как в самые счастливые годы их молодости. Длится это час или два. Затем он снова уходит с головой в хозяйственные дела, хоть и мог после поездки подольше понежиться в постели.
— Некогда даже передохнуть, — сетует он, поймав укоризненный взгляд Габриеле. — Разве надо было бы за каждой шавкой следить, будь у людей совесть и чувство ответственности, уважай они себя и других. А теперь только и гляди, чтобы свинью не подложили. Я не говорю, что все такие, но есть все же типы, которые не могут не совать палки в колеса, особенно если колеса хорошо крутятся и воз поднимается в гору… Зависть, злость застилает им глаза. Взять хотя бы и этого увальня — Антанаса Гириниса. Еду я вчера, смотрю, как трактористы работают, и вдруг вижу: стоит «Кировец». Ты представляешь себе, что значит простой такого исполина, хотя бы пятиминутный, да еще в страду? По меньшей мере полгектара невозделанной земли! Подхожу — да это же Унте. Копается, возится над гнездом какой-то пичуги, и делай с ним что хочешь. Он, видите ли, должен это гнездышко перенести, чтобы под ножами культиваторов яички не погибли… Ну, скажи, есть у человека разум?
— А может, в этих яичках уже и птенцы шевелились? — спрашивает Габриеле.
— Птенцы? — сердится Стропус. — Положим, птенцы. Какое ему дело? Если из-за каждого птенца прыгать с трактора, то у нас осенью хлеба не будет.