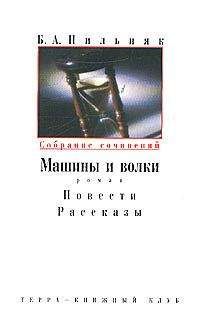— И когда шлюпка отчалила уже от парохода, за горой разорвался пушечный выстрел, и вода около шлюпки в грохоте бешено рванулась к небу. Это обстреливали казаки, пошедшие вперед, навстречу к седьмому (и первому и двадцатому) революционному крестьянскому полку имени матроса Чаплыгина. —
…Такие люди, как Некульев, — стыдливы в любви; — они целомудренны и правдивы всюду. Иногда, во имя политики и во имя жизни они лгут, — это не есть ложь и лицемерие, но есть военная хитрость, — с собою они целомудренно — чисты и прямолинейны и строги. — Тогда, в первый Медынский день, все солнце ввалилось в контору, и было очень бодро, — и потом, через немногие дни, в той же лунной неделе, в лунной и росной мути, Некульев сказал — всем солнцем и всем прекраснейшим человеческим — «люблю, люблю!» — чтобы в этой любви были только солнце и человек: тогда пьяно пахло липами и была красная луна, и они выходили из лесу к полям, где Арина с рабочими драла корье — драла с живых деревьев живую кору, чтобы дубить ей мертвую кожу. — У Арины Арсеньевой было детство, пропахшее пирогами, которое она хотела выпрямить в прямолинейность, — и она возрастала обильно — матерью сырой-землей — как тюльпанная (только две недели по весне) степь, — кожевенница Арина Арсеньева, прекрасная женщина. Дом был прежний, но дни были иные, очень просторные, и не было ни приказчиков, ни бухгалтеров, ни отца, ни матери. Надо было работать во что бы то ни стало. Надо было все перекраивать. Дом был тот же, но из дома исчезли пироги, и там, где раньше была столовая (вот чтобы эти пироги есть) стояли нары рабочих, и для Арины остались мезонин, чемодан, корзина с книгами, кровать, стол, винтовка, образцы кож, и в углу жил волченок (о волченке потом…). Но за домом и за заборами — дом стоял на краю села — была степь по прежнему, жухлая, одиночащая, в увалах и балках, такая памятная лунными ночами еще с детства. А каждая женщина — мать. Надо было на тарантасе мчать в леса на обдирку корья; надо было мчать в город в совнархоз и там ругаться; надо было лезть на всяческие рожны на митингах в селе, на совещаниях в городе; надо было говорить о голье, о бахтарме, о дерме, о золении, о дублении, об обдирке, обсышке, о шакше (сиречь птичьем помете), — и надо было иной раз рабочих обложить — в чем пес не лакал, таким матом, чтоб даже сами скорняки уважили; за забором стояли низкие бараки, рядами стояли чаны для промывки и зазолки, сзади пристроена была боенка, строились бараки для мыловаренного и клеевого заводов, стоял амбарушка, где рушили в пыль лошадиные кости: надо было все перестраивать, делать заново и по-новому. Надо было носить пиджак по-мужски, револьвер на ремне, — и сапоги надо было шить на заказ: мала была ножка! И не надо — не надо было склоняться вечерами над волченком, смотреть ему в глаза, нежные слова говорить ему, и вдыхать его — горький лесной запах! — И вот в солнечный бодрый день — всею матерью сырой-землей, подступавшей к горлу, — полюбила, полюбила! — И тогда, в той же лунной неделе, в лунной и росной мути, когда Некульев сказал — «люблю, люблю», — остались только луна, только мать сыра-земля, и она отдалась ему — девушка-женщина в тридцать лет, отдав все, что собрано было за эти тридцать весен. — Он, Некульев, приезжал к ней вечерами и приходил наверх в мезонин; иногда ее не было дома, тогда, дожидаясь, он рылся в чуждых ему книгах о кожевенном деле и пытался играть с волченком; но волченок был враждебен ему: волченок забивался в угол, съеживался и оттуда смотрели чужие, немигающие, абсолютно-осторожные два глаза, следящие за каждым движением, ничего не опускающие, — и волченок скалил бессильную маленькую свою морду, и от волченка гнусно пахло псиной, кислым, недостойным человека… Входила Арина, и Некульеву каждый раз казалось, что это входит солнце, и он слепнул в счастьи. Некульев не замечал, что всегда она кормила его вкусными вещами, ветчиной, свининой, и очень часто были или пухлые пироги, или сдобные пышки, которые Арина — удосуживалась, все же! — пекла сама. Некульев не замечал, что весь этот дом, даже пироги, пропахли странным, непонятным ему запахом, — кожей, что-ли. — Потом Некульев и Арина шли в степь, спускались в балку, где наверху склоняли головы солнц подсолнухов, а внизу пересвистывались и замирали неподвижно, стражами сурки, поднимались на другую сторону балки, — и были там в местах совершенно первобытных, где не проходили даже татарские орды. Арина отдавалась Некульеву всею матерью сырой-землей, — Некульев думал, что в руках его солнце. — У них не было влазин с черным петухом и с черной кошкой (хотя и было полнолуние) — потому, что у них были любовь и счастье.
И это счастье расколотилось вдребезги, как вдребезги бьют глиняную посуду на деревенских мужичьих свадьбах. — Некульев понял запах Арины и пересилить его не мог.
Некульев приехал днем. В мезонине был только волченок. У заводских ворот сидел сторож, старик, он сказал: — «Лошадей часотошных пригнали из армии, дохлых, порченых, — пошла туда Арина Сергевна.» — Некульев пошел по заводу, прошел мимо громоздких протухших чанов, побрезговал зайти в бараки, калиткой вышел на другой двор, — и там увидел. — На дворе стояло штук сорок совершенно измызганных лошадей, без шерсти, слепых, обезноживших (когда лошади «безножат», тогда ноги их как дуги), лошади походили на ужасных нищих старух, лошади сбились в безумии в табун, головами внутрь — хвостов у лошадей не было, и были лишь серые чешуйчатые репицы на месте хвостов, которые судорожно дрожали. И тут же, за низким заборчиком, убивали лошадей, одну за другой, отрывая каждую насильно от табуна. Открылись воротца туда, на бойню, — четверо вталкивали в ворота противящуюся лошадь, один из них ломал репицу хвоста, вынуждая лошадь итти убиваться, — вышла из ворот Арина, ударила поленом лошадь по шее, лошадь качнулась от удара и пошла вперед. Арина была в окровавленном фартуке и в кожаных штанах. Некульев побежал к воротам. Когда он взбежал туда, лошадь уже лежала на земле, дергались судорожно ноги, сползли с зубов мертвые губы и язык был зажат в зубах вместе с желтой слюной, и двое рабочих уже хлопотали над лошадью, распарывая — живую еще — кожу; сломанная репица лошади торчала вверх. Некульев крикнул: — «Арина, что вы делаете?!» — Арина заговорила деловито, но очень поспешно, так показалось Некульеву: — «Кожа идет на обделку, жировые вещества идут на мыло, белками мы откармливаем свиней. Сухожилия и кости идут на клееварню. Потом кости размалываются для удобрения почвы. У нас все использывается.» Руки Арины были в крови, земля залита была кровью, — рабочие обдирали лошадь, другие конские трупы валялись уже ободранные, — лошадь подвесили за ноги, на блоке, к виселице. Некульев понял: здесь пахнет так же, как всегда от Арины, и он почувствовал, что горло его сжала тошнотная судорога. Некульев приложил руку ко рту, точно хотел рукою зажать рвоту, повернулся и молча пошел вон, за заборы, в степь. Некульев был целомудрен в любви. Он был всегда бодр и любил быть «без дураков» — в степи он шел как дурак, без картуза, который забыл в мезонине у волченка. Больше Некульев не видел Арины. -
Леса лежали затаенно, безмолвно, — по суземам и раменьям (говорил Кузя) жил леший, — горели в ночах костры, недобрые огни. Если бы было такое большое ухо — оно услыхало бы как перекликаются дозорные, как валятся деревья, миллионы поленьев (чтобы топить Волгу и революцию), услыхало бы свисты, посвисты, пересвисты, окрики и крики. — Лежала в лесах мать сыра-земля. — Был рассвет, когда над лесами полетели ядра, чтобы ядрами ставить правду. — Некульев прошел в дом, позвал за собой Кузьму и Егора, сказал, став за стол:
— Товарищи. Я ухожу от вас, в Красную Армию. Поступайте как знаете. Если хотите, идемте со мной.
Кузя помолчал. Спросил Егора: — «Ты как понимаешь, Ягорушка?» — Егор ответил: — «Мне нельзя иттить, я избу новую построил, никак к примеру нельзя, все растащуть, — я лучше в деревню уеду.» — Кузя за обоих ответил — руки по швам:
— Честь имею доложить, так что мы остаемся при лесах!
Некульев сел к столу, сказал: — «Ступайте, что останется от меня, разделите по-ровну, я уйду только с винтовкой. Кузьма, приди через час, я дам тебе письма, отвезешь.» — Кузьма и Егор вышли. Над домом разорвался снаряд.
Некульев написал на клочке, поспешно:
«В Губком. — Товарищи, я покидаю леса. Я спешу, потому что около идет бой. Я ухожу в Красную армию, но это не конец, — я хочу работать, только не с землей, чтобы черти ее прокляли: пошлите меня на завод. Работать надо, необходимо.»
«Ирине Сергеевне Арсеньевой. — Арина, прости меня. Я был честен — и с тобой, и с собой. Прощай, прости навсегда, ты научила меня быть революционером.»
* * *
О волченке.
Была безлунная ночь. Шел мелкий дождик. Ирина шла из степи, прошла селом, слушала, как воют на селе собаки, село замерло в безмолвии и мраке. Вошла во двор, прошла мимо чанов, никто не повстречался, — поднялась в свой мезонин. Прислушалась к тишине — рядом здесь в комнате дышал волченок. Зажгла свечу, склонилась над волченком, зашептала: — «Милый мой, звереныш, ну, пойди ко мне!..» — Волченок забился в угол, сидел на задних лапах, поджал под себя пушистый свой хвост и черные его глаза стерегли каждое движение рук и глаз Ирины. И когда глаза их встретились, глаза волченка, не мигающие, стали особенно чужие, враждебными навсегда. Ирина нашла волченка еще слепым, она кормила его из соски, она няньчилась с ним как с ребенком, она часами сидела над ним, перешептывая ему все нежные слова, какие знала от матери, — волченок рос у нее на руках, стал лакать с блюдца, стал самостоятельно есть, — но навсегда волченок чувствовал себя врагом Ирины. Приручить его возможности не было; и чем больше волченок рос, тем враждебнее и чужее был он с Ириной, он убегал от ее рук, он перестал при ней есть, — они часами сидели друг перед другом, между ними была его миска, она знала — он был голоден, она умоляла его нежнейшими словами — «ешь, ешь, голубчик, — ну ешь-же, все равно я не уйду отсюда!» — волченок следил своими стекляшками глаз за ее глазами и руками, и был неподвижен, не смотрел на миску, — пока не уходила она, тогда он поспешно съедал все до дна; он ворчал и скалился, когда она протягивала руку; он был врагом навсегда, приручить его возможности не было; Ирина много раз замечала, что наедине волченок живет очень благодушно, своими собственными интересами: он бегал по комнате, изучал и обнюхивал вещи, грелся на солнце, ловил мух, благодушествовал, задирал вверх ноги, — но как только входила она, он вбирался в свой угол, и оттуда смотрели два черных абсолютно-внимательных глаза. — Ирина поставила свечу на полу, и села против волка на корточки, сказала — говорила: — «милый мой, звереныш, Никитушка, — ну, пойди ко мне, — у тебя ведь нет мамы, я приласкаю тебя на руках!» Свеча коптила, мигала, — мир был ограничен — мир Ирины и волченка — спинкой кровати, стеной, печкой, и потолок уже не был виден, потому что коптила свеча и потому что обе пары глаз смотрели друг в друга. Ирина протянула руку, чтобы погладить волченка — и волченок бросился на эту руку, бросился в смерть, страшной ненавистью, — впился зубами в пальцы, упал в злобе, не разжимая челюстей; — Ирина отдернула руку, волченок повис на зубах, — на руке, — волченок сорвался с руки, срывая мясо с пальцев, ударился о кровать, — и сейчас же по-прежнему сел волченок в углу и оттуда смотрела пара немигающих его абсолютно-внимательных зрачков, точно ничего не было. И Ирина горько заплакала — не от боли, не от крови, стекавшей с руки: заплакала от одиночества, от обиды, от бессилия — как ни люби волка, он глядит в лес, Ирина была бессильна пред инстинктом — вот пред маленьким вонючим, пушистым комком лесных, звериных инстинктов, что сейчас засел за кроватью, — и перед теми инстинктами, что жили в ней, правили ей, — что посылали ее сейчас в дождь, в степь, плакать на том увале, где отдавалась она Некульеву; — и в бессилии, обиде, одиночестве (чем больше любила она волченка, тем злее был он с ней) больно ударила она волченка по голове, по глазам и упала в слезах на постель, в одиночестве, в несчастии. Свеча осталась около волченка. —