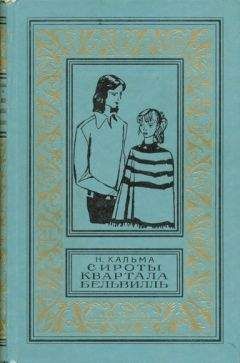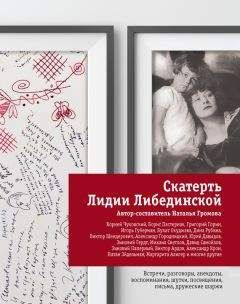Клоди замолчала, нервно теребя рукава своего вязаного свитера. Лицо ее горело: никогда еще не приходилось ей говорить так много, а главное — решать чью-то судьбу. А что решалась судьба Дидье — понимали все ребята.
— Я — «за», — первый громко сказал Пьер и поднял руку. — Клоди права, надо оставить Дидье здесь и навсегда это дело забыть. Дать слово и себе и другим — не вспоминать никогда.
— Не вспоминать никогда, — как эхо, отозвалось в комнате.
Множество рук, тонких и толстых, красных, испачканных чернилами, землей, красками, и нервных, хорошо отмытых, поднялось в ответ.
Дидье обвел всех глазами и вдруг заревел бурно, оглушительно, как маленький.
— Я… я больше не буду-у… — услышали старейшины старое, как мир, обещание.
Снаружи был дождь, в лаково-черных мостовых отражались, дробились огни реклам, фары автомобилей, красные огонечки стоп-сигналов. Чешуйчатым разноцветным куполом нависали над улицей прозрачные пластмассовые зонты. А здесь теплый туманчик плыл по залу, смазывая все краски, сглаживая линии, дымки сигарет, кофейные пары, поднятую ногами танцоров пыль. Танцоры отплясывали, не щадя себя, и шейк, и твист, и собственные талантливейшие импровизации — смесь ритуальных плясок торжествующих людоедов с партерной гимнастикой. Особенно отличалась одна пара — высокий, с маленькой головкой парень, похожий на жирафа в рубашке жирафьей расцветки, и его партнерша — худенькая, как мальчик, продавщица из магазина Монопри, которую здесь все знали и звали просто Люсьенн. К величайшему восторгу присутствующих, они во время танца несколько раз сделали кульбит в самом центре зала.
Те, кто пришел на этот праздник, организованный рабочим молодежным журналом, чувствовали себя свободно и просто. Папаша Люссо отгородил небольшую стойку у окна, наготовил бутербродов, пива, кофе. Три музыканта — пианист, аккордеонист и ударник — были тоже свои парни и самозабвенно отбивали такт своими инструментами, все поддавая и поддавая жару танцорам. Здесь не нужно было церемонно подходить к даме и, кланяясь, приглашать ее на танец. Достаточно было крикнуть издали: «Люсьенн, давай потопчемся немного», или просто сделать знак, означающий: «Пойдем попляшем». Девушки тоже не отставали от парней и, не чинясь, выбирали себе партнеров по вкусу. Рири, пришедшему вместе со своей «стаей», пришлось всерьез отбивать такие атаки: его рост, плечи, а главное, уверенный и небрежный вид ввели девчонок в заблуждение — те, кто не знал его, думали, что это взрослый, самостоятельный парень. К тому же и манеры у него были, пожалуй, не такие развязные, и это нравилось. Каждой, кто его приглашал, он говорил извиняющимся тоном:
— Простите, мадемуазель, но я не танцую.
— Не умеешь, что ли? Так я научу, — не сдавалась приглашающая.
— Простите, мне нездоровится…
— Вот еще воображала… — недовольно бормотала девушка и уходила искать другого партнера.
Рири скучливо провожал ее глазами: хорошенькая и как будто неглупая, но до чего же ему сейчас безразличны и эти красотки и танцы!
Он был смутен, зол, взбудоражен. Только что в соседнем помещении, служившем обычно раздевалкой спортсменам, проходило собрание фабричной ячейки. Люди выкладывали все, что наболело: придирки администрации и охранников, которые следят, чтоб никто не «болтался» по цехам, не переговаривался с товарищами, не распространял заводскую многотиражку, не собирал деньги на «Народную помощь» — словом, чтоб никто и не помышлял поднять голос против хозяев.
И Камилл Дилон, слесаренок, которого Рири знал по Бельвиллю еще с детства, схватил Вожака за рукав:
— Посмотри, что я получил…
— Да знаю я, отлично знаю, — вырывался Вожак.
— Нет, ты все-таки посмотри… — не отставал Камилл.
Из нагрудного кармана куртки он вынул сложенный вдвое картонный прямоугольник. На первой странице — синяя карта Франции с серпом и молотом вверху. На второй — имя владельца Камилла Дилона и название заводской ячейки. На третьей — клетки для отметок о внесенных взносах. Партийный билет французского коммуниста!
Вожак покраснел:
— У моих бабки и деда знаешь сколько таких билетов…[2] десятка три с лишним, наверное. Ведь они старые коммунисты. И хранят их год от года, как самые большие ордена…
Камилл кивнул:
— Я тоже буду хранить. Это, знаешь, такое дело… такое дело… — Он не находил слов. Хлопнул Рири по плечу: — А ты что ж?
Рири покраснел еще гуще.
— Мои старики считают, что я должен учиться, много учиться. Что я, как они говорят, еще не «созрел», — пробормотал он не очень-то разборчиво.
— Что ж, наверное, они правы, твои старики, — как-то слишком быстро согласился Камилл. — Я тоже буду учиться, мне уже сказали, что помогут. Но я и сейчас неученый могу все-таки пригодиться. А, как ты думаешь? — Он вопросительно смотрел на товарища.
— Ну конечно. Разумеется, ты будешь нужен и сейчас, — поспешил его успокоить Рири. А сам отводил глаза, чтоб Камилл не заметил в них горькой зависти, разочарования, печали…
Он не мог больше оставаться в этом тесном помещении и выскочил в зал, туда, где танцевали. И почти тотчас же к нему подбежал Саид:
— Вот ты где, Вожак, а я тебя ищу. Сегодня у нас была срочная работенка, я опоздал. Зашел за тобой, а тебя уже нет. Зато принес кое-что — мне Желтая Коза дала для тебя. — И Саид протянул Рири длинный голубоватый конверт с изображением танцующей на льду девочки.
Конверт как будто обжег руку Рири, и он поспешно спрятал его в карман. Нет, он не мог читать письмо здесь, в этом зале, где со всех сторон смотрели чужие глаза.
— Пойду подышу свежим воздухом, а то здесь душновато, — бросил он Саиду.
Тот рванулся было за ним, но вовремя поймал взгляд Рири и остался в зале. А Рири вышел прямо в дождь и черноту улицы, поднял воротник куртки и минуту стоял у дверей, выглядывая, где бы ему пристроиться: чтоб был свет и хоть какой-нибудь навес, оберегающий от косых дождевых струй. Правда, в нескольких шагах был ресторанчик папаши Асламазяна, но там, Рири знал, его встретят любопытные глаза толстухи Дианы, а ему этого не хотелось.
«Ага, вот, кажется, подходящее местечко», — пробормотал он про себя.
Это была хорошо освещенная витрина скорняка Берманта — отца Филиппа. Широкий козырек нависал над витриной, и под ним был виден кусок сухого тротуара. Перепрыгивая через лужи, Рири добрался до этого островка, торопливо надорвал конверт. Округлый, как будто старательный детский почерк, а вместе с тем рассеянность, небрежность, пропущенные буквы, недописанные слова. Но Рири все это было безразлично — он читал жадно, ничего не видя и не слыша вокруг.
«Здравствуй, Рири! Пишу тебе ночью, в постели — взяла фонарик, который ты мне подарил, сделала над головой палатку из одеяла и пишу на учебнике английского. Если меня сейчас поймает Боболь или кто-нибудь из старших девчонок, мне влетит — ужас! Но что делать, если днем нет ни минутки свободной. Между прочим, я так хочу спать, что вот-вот засну, и тогда ты этого письма не получишь. А надо, чтоб ты знал, что у нас делается.
В Ла Мюре бастует «Рапид» — все рабочие завода. Завод стоит, хозяева пока не идут на уступки, и рабочие тоже стоят на своем. Наверное, Анриетт и Патош сказали знакомым рабочим, что они их поддержат, и вот уже третий день заводские привозят нам своих ребятишек. Мы тоже ввязались в это дело, и теперь все старшие взяли на себя приезжих ребят. У меня в группе двенадцать ребятишек. Ну-ка посчитай, сколько мне надо за утро проверить зубов, если у каждого их по тридцать два, сколько заплести косичек, сколько ног обуть, сколько шей вымыть… Сосчитал? Хорошо еще, что у меня три помощника: Пьер, моя дочка Шанталь и Казак. Пьера ты, конечно, знаешь — это тот изувеченный отцом парень, который приезжает в республику на конец недели. Он очень хороший, все умеет делать, и Анриетт с Патошем на него полагаются как на каменную стену. Так и говорят, если что не ладится: «Подождем Пьера, Пьер это сделает». Жаль только, что на днях он ложится в клинику, то есть не жаль, это я, сонная, глупости говорю, и все-таки жаль, что главного помощника не будет. Шанталь тоже не понарошку помогает, а всерьез, как большая: кормит самых маленьких, играет с ними, пересказывает им мои сказки — просто молодчина. А Казак, представь, ведет себя как настоящая пастушеская собака: когда мы идем в поход или на прогулку в горы, он следит, чтобы кто-нибудь из маленьких не отбился, не отошел в сторону, лает, толкает малыша обратно ко мне. Все здесь его любят, а маленькие, когда плачут, непременно требуют: «Пускай придет Казак! Хочу Казака!»
Если б ты знал, какие есть бледненькие, недокормленные — сердце переворачивается. Я дала себе слово: покуда они у нас — сделать из них здоровеньких толстячков.