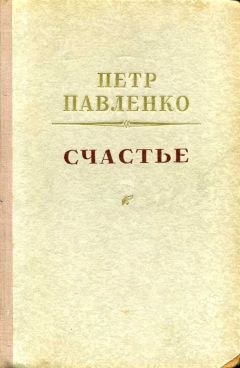— Да что я — дефект имею, что вы обо мне разговор такой завели? Не больной, кажется. Нет, не то сказали, не то.
Аннушка Ступина вышла из темного угла и, раздвинув столпившихся вокруг Воропаева, стала перед ним, бледная и молчаливая. Она ничего не могла спросить, она просто ждала, что падет на ее долю.
Воропаев обнял ее за дрожащие плечи.
— А о тебе я рассказал, как ты прошагала Европу, как сражалась с фашистами в лагерях, какую святую ненависть к врагам пронесла через все испытания. И он...
— Сталин? — спросила она одними губами.
— Да. Он сказал: «Если одну ненависть этой Ступиной...»
— Так и сказал: Ступиной?
— Да. «Если одну ненависть этой Ступиной направить по верному пути — горы, говорит, можно свернуть».
— Правильно. Могу. Это он верно сказал. И прозвал меня по фамилии?!
Она бросилась на шею Воропаеву и, обнимая его, заговорила:
— Ну зачем вы про меня рассказывали? Как же мне теперь жить? А?
— То есть как это? — не понял ее волнения Воропаев.
— Как же мне теперь жить? Сталин сказал, что Ступина горы может сдвинуть... А я — сдвинула? С головой вы меня выдали! Жила себе, никто не знал, и вдруг вспомнит когда-нибудь товарищ Сталин: «А что эта Ступина Анна, как она там, проверьте», — скажет он... Ой, аж страшно мне!.. Может, конечно, он и забудет обо мне, а вдруг не забудет! Я ж теперь навеки покоя лишусь.
— Погоди, дочка, мы все покоя лишились от этого разговора. Выкладывай, Вениаминыч, все до последнего слова. Секретов тут никаких быть не может.
Воропаев стал передавать слова Сталина о том, что вопросами питания правительство займется, как в свое время занималось промышленностью, что трудности временны и нужно думать, как им тут поднять все виды хозяйства.
Городцов слушал, недовольно морщась.
— Как в окружение попали, честное слово. В трудное положение ты нас поставил, — сказал он, когда Воропаев закончил рассказ. — Что добрым словом помянул, за то, конечно, спасибо, а что перехватил — это перегиб. Всамделе, даст приказ проверить... а у нас что?.. Вот же ты какой человек, Алексей Вениаминыч, неосторожный.
— Да, поагитировал, — согласился с Городцовым и Цимбал. — Теперь хоть через себя перепрыгни, а показатели надо дать.
Они вздохнули. Виктор Огарнов добавил:
— Вроде как получили награду, а за что — неизвестно.
— А какие там эксперименты этот Иван Захарыч производит? — спросил Юрий. — Надо нам этого Ивана Захарыча потрясти за душу, выяснить, какой ему совет дан. Старик жадный. Вчера я его видел — слова мне не сказал.
— Скажет он тебе! А ведь, чорт лысый, сам ни за что с делом не справится. — И Цимбал сказал Городцову: — Поедем к нему?
— Обязательно, — ответил тот. — Надо сразу хвататься за практический предмет. Поехали!
Варвара Огарнова шумно опрокинула табурет, выбежала из комнаты. Лицо ее было красно от сдерживаемых слез. Она пыталась что-то сказать, но только махнула рукой, выходя за дверь. О ней ничего не было сказано, и это глубоко обидело ее.
Всем стало как-то неловко за Варвару.
— Поехали, поехали! — заторопился Городцов.
Стали прощаться.
Аннушка Ступина тоже решила ехать со всеми, хотя Лена ее удерживала.
— Нет, нет, я тоже поеду, я не могу, — настаивала Аннушка. — Я какая-то другая стала, Лена, вы знаете. Я сразу какая-то большая стала, будто меня на ответственное место определили. Нет, нет, я ни за что не останусь, как же так, — и первая выбежала из комнаты во двор, увлекая за собой всех остальных.
Когда подвода тронулась, она запела, и долго ее тонкий, почти ребяческий голос прорывался сквозь шум, улицы.
В начале апреля 3-й Украинский фронт двигался через Венгрию к Австрии.
Моторизованный поток разливался подобно весеннему паводку, не знающему преград. Двигались газы, се-те-зе, эмки, виллисы, низенькие жукообразные пежо и высокие, колченогие, задом наперед, татры с запасной шиной впереди и мотором сзади, сражались доджи, шевроле, мерседесы, ДКВ, любовно прозванные «Дерево-Клей-Вода», хорхи, вандереры, ганемаки, адлеры, штейеры, фиаты, ягуары, автоунионы, изото-фраскины, испано-суизы и еще многое другое, безыменное, сборное, чему давно уже нельзя было подыскать названия и определить тип или марку. За боевыми подразделениями торопились тылы.
Сотни остророгих, палевой раскраски, быков и тысячи высоких ширококостных коней с коротенькими, как метелки, хвостами, запряженные в подводы, фургоны, каруцы, арбы, фаэтоны, кабриолеты, фуршпаны, плетенки, тачанки; бесчисленное количество велосипедов — дамских, мужских, гоночных, детских, грузовых с ящиком впереди; старинных дормезов и даже дворцовых — с золотыми гербами — голубых венских карет позапрошлого столетия, скрипучих и малоподвижных, с выдвижными подножками, с высокими козлами для кучеров и балкончиками для лакеев позади кузова; верблюды из астраханских степей и ослики из Таджикистана, курчавые монгольские лошадки везли на себе хозяйство наступающей армии.
Пехота, по сути дела, перестала существовать. Все ехало. Никто не шел пешком, кроме пастухов, погоняющих огромные стада овец, свиней и коров, медленно пылящих в самом конце армейского потока. Впрочем, и пастухи меланхолично сидели верхом на коровах.
Десятки приказов о приведении в порядок транспорта и культуры маршей не всегда достигали должного эффекта. Теперь, когда война приблизилась к своей долгожданной цели, каждый мечтал до предела ускорить темпы и уж никому не хотелось бить сапоги по венгерскому и австрийскому асфальту, а хотелось подъехать к победе обязательно на чем-нибудь трофейном.
Уставшие после затяжных боев у Будапешта и озера Балатон, сильно поредевшие и насчитывающие небывало высокий процент раненых, оставшихся в строю, полки делали теперь броски по пятьдесят километров за ночь, сто — в сутки. Какая тут, к чорту, пехота могла соперничать с этим едущим на рысях войском, которое само кормило своих быков и само же заправляло горючим свои мотоциклы и автомобили, не требуя ни горючего, ни продовольствия, ничего, кроме боеприпасов, и настаивая только на непрерывном движении вперед и вперед, к концу войны.
Бросок к Вене был необходим резкий, точный, каждый это отличнейшим образом понимал, и первыми были оставлены позади быки. На бычьих обозах устроились раненые — тоже, вопреки всем приказам, двигавшиеся не в тыл, на восток, к госпиталям, а вперед, за своими дивизиями, но в приличном, никому не мешающем отдалении. На быков же отгрузили часть имущества, ранее занимавшего грузовики. На быках двигались трофеи, не потребные дли боев. На быках шел самый тыловой тыл, шел медленно, но все же не стоял на месте, а как бы участвовал в общем течении.
Узкие австрийские дороги с отличным профилем не вмещали бычьего и конского потока, все это на скрещениях или у временных мостов надолго застревало и перекручивалось на радость немецким летчикам, беспрестанно бомбившим эти гигантские цепи. При налетах никто, однако, не разбегался, не рассредоточивался, а норовил в суматохе выискать свободную щель и просунуться вперед, в обгон других.
Но на подступах к Вене стихийно возникшие из ничего бычьи и конские обозы были оставлены позади и тянулись в двух-трех переходах позади основных сил, а дорогами завладели бешено мчавшиеся грузовые и легковые автомобили.
4-я гвардейская армия, в которую входил корпус Воропаева, вбежала на плечах немцев сначала в южные предместья Вены, а затем, сменяя соседа справа, завязала бои в предместьях Земмеринга, на восточных рубежах города.
Александра Ивановна Горева, все это время шедшая с медсанбатом, была сейчас временно в распоряжении армейского хирурга и могла бы найти себе работу в хирургическом госпитале, но она категорически настояла на том, что будет работать в эти дни только в медсанбатах дивизий, штурмующих Вену.
Стояли ветреные, но теплые, склонные к дождям дни раннего апреля. Капризная придунайская весна была в этом году особенно нервна: без шинели было еще свежо, в шинели — жарко.
Александра Ивановна готовилась отправиться в дивизию, наступающую с юга, и уже подобрала компанию и обзавелась машиной, как вдруг почти в минуту отъезда ей рекомендовали отправиться в восточные пригороды, где приходилось срочно сменять соседа, а заодно налаживать связь с дунайской флотилией. Бои за Вену предполагались, исходя из будапештского опыта, длительными, потери — значительными, вопрос о своевременной эвакуации раненых приобретал серьезное значение.
Но она, выслушав советы и указания, совершенно точно знала, что ни с кем не будет уславливаться о вывозе раненых, а будет добиваться лишь одного: чтобы люди поступали на операционный стол не позже, чем через час после ранения.
Опыт Кишинева, Ясс и особенно Будапешта подсказывал ей, что раненого не надо увозить в тыл и что опытные врачебные руки, готовые оказать если не дружескую, то во всяком случае вполне лойяльную помощь, теперь, когда мы побеждаем, найдутся всюду.