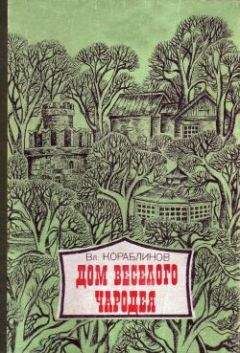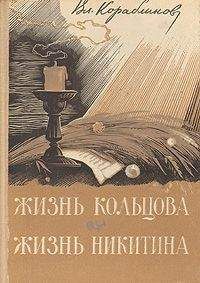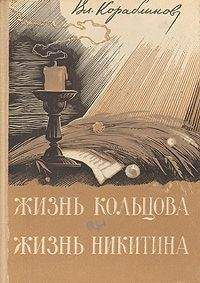«Подсим памятником погребено тело мещанина Алексея василева Колцова сочинителя и поета воронежского, – рассказывали безграмотные кривые строки. – Просвещеной безнаук Природою награжон Монаршею Милостю скончался 33 годов и 26 дней в 12 часу брака неимел. Рожден отродителя Василия Петрова и Праскови Ивановной Кольцовой жителей воронежских. Покойся любезный сын, – заканчивалась эпитафия, – стенящие родители преклоной старости молим всещедрова успокоить душу твою внедрах Авраамовых».
– «Стенящие родители!» – сердито сказал Мочалов. – Низость какая!
Как на живого человека, как на врага, поглядел он на памятник: черный, нелепый, похожий на старика Кольцова в его длинной, до пят, шубе, стоял он, бормоча лживые, грубые слова своих каменных изречений.
– Заждались? – неожиданно появился из-за деревьев сторож. – А я и стаканчик захватил, вот, пожалуйте!
Он подал Мочалову граненую бутылку и толстого зеленого стекла стаканчик.
– Извозчик спрашивает, скоро ли? – извиняющимся голосом сказал сторож. – Ничего, говорю, подождешь, не видишь нешто, дурья голова, какой барин-то!
Мочалов налил в стаканчик водки.
– Ну-ка, друг, – протянул он стаканчик старику, – помяни раба божьего Алексея…
– Это можно, – согласился сторож. – А вы что же?
– Мне нельзя, – сказал Мочалов. – Такое мое, брат, нынче дело…
– Ну, царство небесное! – Привычным жестом старик опрокинул стаканчик и, крякнув, вытер ладонью усы. – Вы что ж, покойнику-то родня, что ли, будете?
– Друг он мне был. – сказал Мочалов. – Да и не только мне, – добавил он, помолчав, – всей России друг.
– Да, хорошие песни складывал, – согласился сторож, – это верно…
– Внуки и правнуки твои петь будут, – серьезно сказал Мочалов. – Ну, прощай, брат, пора мне…
– А штофчик забыли, – подавая бутылку, напомнил сторож.
– Себе возьми! – махнул рукой Мочалов. – Да поглядывай за могилкой-то!
Казалось, что в зале потолок обрушится от рукоплесканий. Вздрагивая от сквозняка, колебались холщовые декорации, шипя, чадили масляные лампы. Но никто из зрителей не замечал ни намалеванного неба, ни деревянных алебард, ни убогих, грязных декораций. Не было сцены, не было актеров: был несчастный Гамлет, бедный принц, с душой прекрасной и глубокой, была человеческая страсть, человеческое горе.
Едва ли когда Мочалов так потрясал людские сердца, как в этот ненастный декабрьский вечер, в затерянном среди снежных степей городе, на небольшой сцене провинциального театра. С первого же монолога он покорил зрителей. А когда, с горьким упреком, произнес он знаменитое:
Как? Месяц… Башмаков еще не истоптала,
В которых шла за гробом мужа… —
ему вспомнилось кладбище, снег, голые деревья и забытая, одинокая могила, над которой торчал нелепый черный камень с его кривыми строчками лживых надписей. Голос Мочалова дрогнул, он запнулся и так, сквозь слезы, закончил монолог.
Его вызывали несчетное количество раз. Зал бесновался.
Восторженные крики и аплодисменты распирали запотевшие, грязные стены зала. Бледный, без кровинки в лице, Мочалов выходил, кланялся, точно слепой, не видя публики, удалялся за кулисы, и снова выходил, и снова кланялся.
– Ловко, шельмец, представляет! – сказал важный, со звездой на фраке, чиновник. – А все-таки нету, знаете, лоску… Вот я Каратыгина глядел, у того есть…
– Низкого круга человек, ваше превосходительство, – угодливо поддакнул ему мелкий чиновник. – Какой же может быть лоск?
Мочалов уже надевал шубу, когда в уборную к нему вошел вылощенный, выхоленный, пахнущий дорогими духами незнакомый офицер. Это был адъютант воронежского генерал-губернатора. Его высокопревосходительство приглашал Мочалова и всю труппу к себе на ужин.
– Не могу-с! – довольно резко сказал Мочалов и, сославшись на усталость и нездоровье, ушел к себе в гостиницу.
Не раздеваясь, долго сидел он в кресле, глядя на злой, красноватый язычок свечи. Весь нынешний день проплыл перед его глазами: Микульский, старик Кольцов, хихикающий Дацков, бедная Варя, нищие старухи, кладбище, сторож, безобразный черный камень над заброшенной могилой…
Что-то много горечи принес ему этот день. Тот подъем и то вдохновение, что, как награда за все пережитое, принесли ему наконец настоящее счастье, вырвали из мрачной бездны его, «мочаловской», тоски, – все это вдруг уничтожилось сразу чистой, розовой, с отвратительными полубачками, физиономией раздушенного губернаторского адъютанта. И, как лжив и черен был кладбищенский камень, так лживо и черно было это приглашение важного сановника отужинать за его столом.
Вспомнилось ему, как однажды, вот за этаким ужином, в доме Аксаковых случилось ему поспорить, как сказал он старику Аксакову что-то откровенно и дерзко. «Да ты пьян! – опешил Аксаков. – А пьяных, брат, будь он хоть трижды Мочалов, я не потерплю! Эй! – крикнул он слугам. – Выведите-ка молодца!»
– Что ж, и вывели! – усмехнулся Мочалов. – Мужик… Отчего бы и не покуражиться над мужиком-то!
Это воспоминание о ссоре с Аксаковым точно прорвало плотину: накопившиеся на душе горечь и обида хлынули мутным потоком. Вспомнилась незадавшаяся любовь… полицейские чиновники, воспрепятствовавшие этой любви… государь-император, высочайше повелевший вырвать из сердца то, что было дороже жизни…
Вспомнился глупый и злой петербургский генерал Гедеонов, ставший после смерти добряка Загоскина директором императорских театров. И как этот Гедеонов приехал к нему домой, чтобы застать его пьяным, так сказать, прихватить с поличным… Ну, что ж, и застал. Мочалов тогда крепко запил и пил третий день, все думая заглушить окаянную тоску одиночества, – ан нет, хмель не брал, тоска не проходила.
Вот таким-то и застал его Гедеонов.
– Как! – негодующе воскликнул он. – Так-то ты, сударь, болеешь? Я тебе не Загоскин, я не потерплю, чтобы мои актеры…
– Вон! – кинулся на Гедеонова взбешенный Мочалов. – Вон отсюда, гадина!
Генерал струсил и убежал. А потом уволил Мочалова из театра. Его, Мочалова, уволил из театра!
Мочалов хрипло рассмеялся. И вдруг ему показалось, что на него кто-то смотрит. Он вздрогнул и оторвал взгляд от свечи. Прямо на него, из большого зеркала, глядел его двойник. «А! – сказал Мочалов. – Вон это кто… Старый знакомый!»
Он подошел к зеркалу. На него глянуло усталое, начавшее обвисать старческими складками лицо. В черных кольцах кудрей сверкала седина: старость.
Он огляделся. Пустой, неуютный номер, голые стены, диван, кровать… Кто только не лежал на этом диване, на этой кровати!
Тишина стояла в гостинице, лишь свеча, оплывая, потрескивала. За черными запотевшими стеклами окон спал мещанский, чиновничий город с его лабазами, острогом, канцеляриями, шерстомойками, церквами, полосатыми полицейскими будками, кособокими фонарями… город, безжалостно задушивший ясноглазого, звонкоголосого русского певца!
Рядом со светлым, скорбным образом погибшего Кольцова встали другие: повешенный царем Рылеев, застреленный холодной рукой наемного чужеземца Пушкин, юный Лермонтов, убитый на дуэли, замученный солдатчиной и побоями Полежаев… боже мой! Сколько уничтожено светлого, талантливого, благородного!
А он сам? Не такой ли страшный конец готовится и ему, Мочалову, артисту из крепостных мужиков, посмевшему сказать в искусстве театра свое яркое, вольное слово?
Холодные, липкие лапы одиночества охватили Мочалова, ему сделалось нестерпимо страшно. «Неужто ж и мне? – с ужасом подумал он. – Что же делать? Забыться!» Скорее забыться! Черт с ними, с билетами, проданными на неделю вперед! Черт с ним, с Микульским, постоянно тревожившимся, как бы с Мочаловым «не случилось». Ан вот сейчас возьмет, да и «случится»! Вот сейчас дернет он шнурок звонка да и велит коридорному принести…
Мочалов потянулся рукой к звонку, и вдруг перед ним возникло лицо Кольцова. Бледный, исхудавший, с крепко сжатыми губами, пристально глядел он на Мочалова. «Что ж, – говорил спокойный, умный, усталый взгляд, – опять забыться, убежать хочешь? Опять духом упал? А я вот, милый друг, не искал забвенья, беде моей глядел в глаза! Я не бежал, а стоял прямо, ждал бури: сломит – упаду, выдержу – пойду вперед! Но не стану перед ней на колени, не буду слезно молить о пощаде, бабой выть… Нет, этого-то не будет! Мы – русские люди: шапку снимем перед грозой, а в сердце кровь не остановим! Еще смеем сказать невзгоде: убирайся, откуда пришла!»
Рука Мочалова, потянувшаяся было к звонку, опустилась. «Мы – русские люди! – прошептал он. – Ах, милый ты мой…»
– Ну, знал бы Микульский, на каком он сейчас волоске висел! – улыбнулся Мочалов и стал раздеваться.
1958