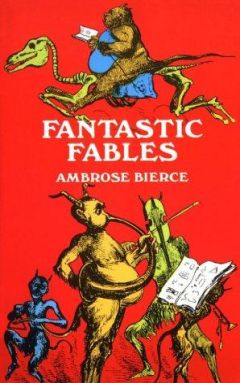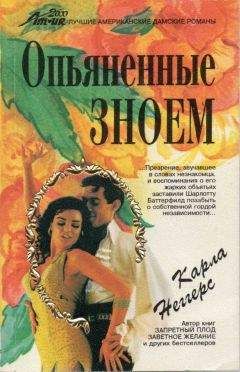- Сын-о-к! Головушка твоя горькая…
- Молчи, мать. Где седло?
- Ой, горюшко!
Не видела старуха затуманенными глазами, как Хан вынес Афоньку за ворота.
Вторые сутки скачет Афонька, остановиться не может. Мотается от станицы к станице, от хутора к хутору, не находит след 2-го революционного. Где же тут найти? Степь под метелью стонет. Снега летят - свету не видно. Грудью режет Хан метелицу, мелькает над оврагами. Наудалую! И вынесла удалая.
Носился в степях партизанский отряд, жег экономии, крушил офицерские полки. Пробивался отряд к Дону, к Миронову. А Афонька больше смерти боялся последней минуты расставания с Ханом…
Помчались дни, простреленные, продырявленные. Падали ночи, исполосованные клинками. Шатаясь, брели окровавленные рассветы, как обозы с недостреленными и недорубленными.
Занимались над степью пожарища. Метались дикие кони, - звезды брызгали из-под копыт. И в каждый бой Афонька летел впереди, пьяный своим счастьем, своей двадцатой весной. Забыл Афонька отцовский завет, забыл про Гришку. В отряде Хан был как золотой в кисете бобыля.
К весне прорубились партизаны к Афонькиной станице. Станица ощерилась штыками, злобно заскрежетала пулеметами. И пулеметы на белых снегах, на степном раздолье подписали смертный приговор Хану.
Какими словами сказать об этом? Какими песнями?
Журавлиной - так она высоко в небе и до сердца не достанет. Волчья - за горло берет! А лебединой еще никто не слышал.
Отвалился Афонька от холодеющего коня, поднялся, глухой ко всему, с пустыми, отцветшими глазами. Шагнул - зацепился за ноги Хана. И показалось Афоньке, что Хан не пускает его. И, собрав всю свою силу, сжавшись в кулак, шагнул еще раз, другой, третий.
* * *
Много было боев потом, много было коней, но ни один, ни один не подходил под рост Афоньке. Он часто пропадал теперь по целым суткам. Возвращался так же неожиданно, раздавал отбитых где-то жеребцов и снова исчезал.
- Как гость в отряде, - говорили у костров.
Думали, крякали, качали головами.
К схватке с атаманцами готовились долго и осторожно. Столкнулись в Дубовой Балке и дрались жестоко. После боя тут же построились для переклички,, Командир с побуревшей тряпкой на руке выкрикивал бойцов. И часто молчание отвечало ему. Шеренга конников хмуро темнела. Дымящиеся кони обрастали инеем, как богатым, серебряным убором.
- Афанасий Каргин, - крикнул командир, сурово оглядывая шеренгу.
Афонька качнулся в седле. Был он бескровен и слаб. Папаху он потерял в бою, и правое плечо его было глубоко разрублено вкось. Афонька захрипел и не то засмеялся, не то закашлял. Видно было, как он напрягается что-то сказать, но губы его не шевелились. Розовые пузырьки стали появляться в уголках рта и нарастать, как пена.
- Поддержите его, - крикнул командир. - Положить в тачанку. Чего смотрели?
Бородатый казак обнял сползающего с седла Афоньку и, заглянув ему в глаза, опустил на снег, к копытам коней.
- Ему и тут мягко, - сказал он, вытирая о гриву окровавленные руки…
На меже толоки, на той самой погиб Хан, где когда-то славу догонял своему хозяину. Не каждому скакуну выпадает такой конец.
А Афонька в Задонье, под ветрами, сложил свою голову.
Плывут облака над Дубовой Балкой.
* * *
Еще через три весны Гришка пахал землю. Надел достался за бугром, на самом краю вековой целины. И нашел Гришка подкову. Подкова - счастье, домой бери. Дома, повечеряв, Гришка что-то вспомнил и схватился за чекмень. Достал из кармана железинку, к огню поднес. Так и есть!…
…Несется звон из землянки… Динь… Динь… Динь… Золотом сыплются искры… Кует отец подковы с заклятьями, с крестами… На малиновом железе рубит буквы - имя любимца.
Почти стерлось на железинке имя, а все же еще заметно. Голову опустил Гришка.
А ночью встала перед ним степь широкая-широкая. Хан летит по ней, стремена от боков отлетают. Из травы поднимается Максим, смеется. Радостно ржет Хан. Максим за луку хватается.
- Ходу!
У Хана крылья распластываются… Ветер свистит…
Трава кланяться не успевает… Качается степь… Сны… Сны…
1923
Чашка.
Большая ярмарка, на которой торгуют главным образом скотом.