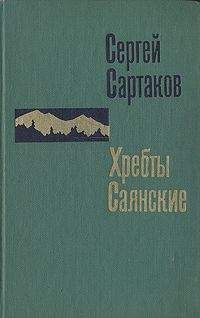Вы, очевидно, Густав Евгеньевич, считаете меня за так называемого дурака.
Нет, нет, не за так называемого, — мельком бросил Маннберг.
Как? — Киреев было поперхнулся, но Маннберг не моргнул даже глазом. — Муть собирают, когда вода отстоится. Зачинщиков я арестую, когда все успокоится.
Однако муть Кирееву собрать не удалось. Безногого Еремея не станешь допрашивать в больнице, Кондрат исчез с участка, а Лиза, как он ни старался вытянуть что-либо от нее на допросе, ничего пе сказала. Да и что она могла бы сказать цепного? Что дал ей нелегальные брошюры Кондрат? Но в этом Киреев и так себя убедил. А что сама Лиза важной роли не играла в этом деле, Киреев был абсолютно уверен. Вот попадись Кондрат, тогда бы потянулась цепочка…
Киреев одно время даже поколебался, стоит ли ему задерживать Лизу и тем более пересылать ее по этапу в Иркутск на доследование, — девка явно попалась, как кур во щи, — но нельзя же не привлечь к ответственности никого! Дойдет этакая история до начальства — вот и пиши пропало — погибла карьера. К этому соображению прибавились еще донос Лакричника и признание самой Лизы в убийстве своего сына. Выдвигая на допросе еще и это обвинение, Киреев пустил его в ход только как средство воздействия на нервы подследственной. Нужного ему эффекта не получилось, по зато потом Лиза стала упрямо подтверждать свое признание в убийстве ребенка. И черт с пей, с этой девкой, пусть теперь идет в Иркутск, пусть там разбираются в этом путаном деле. А чтобы оно выглядело еще более серьезным, Киреев кое-что даже и приписал в протоколе допроса…
Важнее было пойти по следу Кондрата, который, как уверил себя в этом Киреев, и раздавал брошюры рабочим. Не найдя на участке ничего, Киреев решил заняться городом.
«Откуда попали в руки Кондрата брошюры? — рассуждал он. — Ему привезли. Кто? Пока неизвестно. Откуда их привезли? Они могли быть отпечатаны только в городе. В каком? Шиверск и брать под подозрение нечего. Здесь не могли их напечатать. Но… снабжать Кондрата готовыми брошюрами отсюда могли! И скорее всего, что именно отсюда. Значит, чтобы найти, где их печатали, надо прежде найти, кто их хранит здесь…»
Он с удовольствием подумал, что эта цепочка, последовательно разматываясь, может привести даже и в Петербург. И тогда… Тогда это ему поможет снова вернуться в столицу.
Киреев стал перебирать дела, заведенные на всех подозрительных лиц, дошел до Мирвольского, задумался. Происхождение, прошлое не в его пользу, но во всем остальном это человек круга домашних интересов, он не пойдет на риск… И вдруг в памяти Киреева всплыл рождественский вечер, первое знакомство с Мирвольским, игра в преферанс и не очень-то сдержанная речь хозяина дома. Потом этого за Мирвольским не наблюдалось. Тогда же он был явно чем-то раздражен. Подробностей вечера Киреев никак не мог припомнить… И вдруг его осенило… Ба! Да ведь тогда как раз шел разговор об этой самой Коронотовой! И Мирвольский запутался: сперва признался, что знает ее, потом отказался… Предположить, что это было связано только с его советами Коронотовой, как ей избавиться от незаконнорожденного ребенка, которого затем Коронотова по его совету действительно убила?.. Логично. Но тогда логично признать и весь донос Лакричника, как основанный на точном знании фактов. А там, между прочим, говорилось о Мирвольском как и вообще о личности неясного поведения. Что это за «неясное поведение»? Лакричник работает вместе с Мирвольским, он видит его, наблюдает каждый день. Да, Лакричник может оказаться полезным…
Киреев уже иными глазами, внимательно, перечитал кляузу Лакричника.
Припомнилось и другое. Клавдия Окладникова, живущая в услужении у Ивана Максимовича, на днях приходила справляться о дочери. Он говорил с ней очень бегло, а зря… Кто его знает?.. Во всяком случае, этими двумя людьми заняться поплотнее не мешает.
Бабочка-капустница, прицепившись к тонкому стебельку расцветшего бессмертника, тихо покачивала снежно-белыми крылышками. Борис заметил ее еще издали. Оглянувшись на Клавдею, он, широко и прочно ставя ножки, побежал вперед. Клавдея шла, катя перед собой детскую коляску, в которой, разморенная солнцем и пьянящими, тяжелыми запахами резеды и левкоев, спала Нина. Всю свободную от построек часть двора позади дома Иван Максимович превратил в летний сад с цветочными клумбами, декоративными кустарниками и беседками, увитыми хмелем и настурциями. Теперь — будь только хорошая погода — Елена Александровна, ленивая и вялая, все дни проводила в тенистых уголках сада, бездумно покачиваясь в гамаке. Частенько к ней заглядывали с визитами Маннберг и, до отъезда своего в Иркутск — Лонк де Лоббель.
Мальчик остановился, борясь с желанием потрогать пальцем привлекшую его внимание бабочку. Он боялся спугнуть ее, несколько раз протягивал руку и отдергивал обратно. Наконец решился взять бабочку. Но та легко вспорхнула и, в угловатом полете поднимаясь все выше и выше, заметалась над клумбой. В кулачке ребенка оказался зажатым жесткий бутон бессмертника. Клавдея это заметила.
— Бориска, маленький мой, как же ты, мотылька — и то не поймал? Ну, давай, я покличу тебе. — И Клавдея нараспев вполголоса затянула: — Бабочка, бабочка, сядь, покури…
Фу, какие глупости, Клавдия! — возмущенно крикнула ей из беседки Елена Александровна. Она сидела, как всегда, с книгой, хотя, тоже как всегда, ее и не читала. — Чему ты учишь ребенка? Прививаешь ему суеверие. Что за чушь: «Бабочка, сядь, покури!» Можно придумать что-нибудь глупее? Покури!.. Какое убожество мысли!..
Да ведь не я так придумала, — оправдывалась Клавдея, морща лоб; ей в тягость становились вечные попреки Елены Александровны, — в народе такая приговорка ходит.
В народе много чего ходит! Да все повторять — ума не прибавится. В народе!
Клавдея покраснела.
Вам виднее. А по мне, так от народа только ум и прибавится. Народ-то всегда поболее стоит, чем один человек. Может, конечно, в чем…
Елена Александровна лениво рассмеялась:
Не люблю заниматься математикой, кто и что больше или меньше стоит. Знаю одно: не я тебе, твоей жизни, завидую, а ты мне, моей жизни. Так и весь твой народ. А теперь разбирайся сама, кто больше стоит.
Я-то вам никогда не позавидую, — вполголоса сказала Клавдея.
Елена Александровна ее не расслышала, самодовольно откинулась на спинку плетенного из камыша стула, развернула книгу на случайно открывшейся странице и углубилась в чтение.
Клавдея подозвала к себе огорченного неудачей Бориса и, обойдя с ним вокруг цветочной клумбы, покатила коляску со спящей Ниной к застекленной веранде, возле которой стояла низенькая, сколоченная из некрашенных досок скамейка. Клавдея села, задумалась. Борис, посуетившись около, убежал ловить тоненькую синюю стрелку-стрекозу.
Все последние дни, после того как на ее глазах провели Лизу в группе кандальников, Клавдею грызла злая тоска. Она не могла найти себе места. Сразу же тогда она побежала к Кирееву. Тот заставил ее ждать очень долго, а когда принял, сухо спросил, в чем дело, и коротко отрубил: «В Иркутск, в Иркутск, по обвинению в государственном преступлении, так сказать». Клавдея охнула и обмерла. Государственное преступление… Значения этих слов Клавдея не понимала, но тон, каким их произнес Киреев, был настолько суров и зловещ, что слова вдруг представились чудовищно страшными. Они больно давили голову. Государственное преступление… И это могла сделать Лиза, ее Лиза, прежде такая тихая, послушная… Не поверить! Закричать, сказать, что все это неправда… Но Клавдея своими глазами видела Лизу, слышала ее тонкий, исступленный вопль: «Мама!..» Лизу провели под штыками… Остановившимся взглядом Клавдея посмотрела на Киреева, через силу спросила: «Ее казнят?» Киреев помедлил с ответом, — у него нашлось достаточно жалости, чтобы сказать: «Вздор! В худшем случае — тюрьма или каторга». Но для Клавдеи и эти слова прозвучали так: «Дочь свою ты больше никогда не увидишь». Киреев стал ее стыдить, выговаривать, как могла она воспитать, допустить… Клавдея молча повернулась и ушла.
Потом она встретила Дуньчу. Та ей заявила, что Лиза стала прожженной воровкой и за это именно и попала в тюрьму. А Лакричник говорил, что Лиза убила ребенка… Господи! Да разве может все это вместить рассудок, сердце матери?
После смерти Ильчи Клавдея жила единственной надеждой — отыскать Лизу, быть вместе с ней. И вот дочь увели навсегда. Кругом опять одни чужие…
Клавдея с ненавистью взглянула на задремавшую над книгой Елену Александровну. Эта небось на каторгу никогда не пойдет, в тюрьму ее тоже никогда не посадят. Будто она хозяйка не только в своем доме, будто она хозяйка всей жизни, будто и Клавдея чем-то обязана ей.
Ну, а чем, чем она, эта сытая, злая баба, лучше Клавдеи?
Да вот приходится гнуть, ломать для нее спину. Потому что все равно деваться некуда. Иначе не проживешь. Свое хозяйство, хоть и маленькое, да свое, рухнуло. Даже угла своего теперь уже не получишь, не добьешься. Как ни трудись на чужом дворе, хватает еле-еле, чтобы прокормиться. Ладно, она еще работает, а другой так и работы себе пе найдет. Да, деваться некуда. Уйти отсюда — в другом месте, может статься, и еще хуже. Ей припомнилось, как она жила у Петрухи. Здесь хотя не бьют, не преследуют, как тот… Правда, слово, оно иногда больнее ударит, чем кулак…