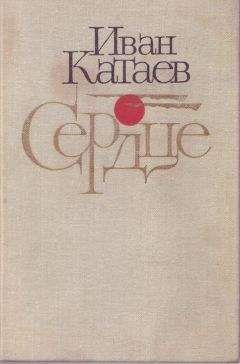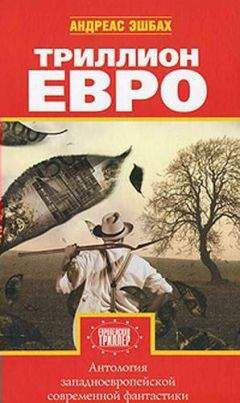В 1930 году он писал на страницах «Литературной газеты»: «Публицистическое освоение современного... материала я считаю наиболее срочным, безотлагательным делом. Грандиозные и стремительные процессы эпохи хочется, прежде всего, обдумать. Полновесное художественное изображение может по необходимости и поотстать. Писатель, особенно обладающий кое-каким журналистским опытом, должен участвовать в прямом публицистическом осознании событий времени. Зрительные представления в этой моей работе призваны играть лишь вспомогательную роль; рисунок идеи лишь слегка тропут пастелью образного. Я отнюдь не считаю такой метод универсальным и пригодным для всех, думаю, однако, что при удаче такая попытка может хоть в малой степени пойти на пользу нашему художеству, очень небогатому мыслью, и нашей публицистике, крайне скудной выразительными средствами». Мы слышим здесь полемический голос идеолога искусства, не только искавшего на практике новые литературные формы, адекватные в его представлении задачам времени, но и теоретически обосновавшего эти поиски, сознательно предлагавшего свои эстетические программы.
Конкретность внимательного и непредвзятого наблюдения над живыми и потому подвижными процессами действительности и открытая публицистичность сознательных выводов, выраженная в искреннем и патетическом слове, — непременное сочетание, присущее всей прозе Ивана Катаева. Настолько непременное, что иногда трудно провести резкую грань между его повестями и рассказами и его очерками.
Что такое его «Хамовники», это лирико-публицистическое вступление к ненаписанной повести (1932 — 1934), эта философско-поэтическая концентрация катаевского мировосприятия, в котором история и современность предстают в их непрерывной цельности, где прошлое зримо переливается в настоящее, а настоящее в будущее, но и в дали прошлых лет явственно уже угадываются поэтом черты настоящего?
В «Хамовниках», где среди запечатленных взволнованной рукой писателя старых камней Москвы возникают тени «великих старцев» — Толстого и Кропоткина, особенно прямо выразилась свойственная Ивану Катаеву историчность мышления и его представление о старом городе, — а таким городом для него была прежде всего Москва, — как о живом организме, порожденном длительной эволюцией, впитавшем в каждый свой камень дух отечественной истории. Неотделимой клеткой и мыслящим рупором этого подвижного громадного организма всегда ощущал себя Иван Катаев.
И все-таки граница между большинством «деловых» очерков Ивана Катаева и его художественной прозой есть, и определяет ее степень художественного вымысла. В конечном счете этот дар обобщающего вымысла и отличает художество от публицистики, образное мышление от научного, фактографическое запечатление даже самого типичного случая от синтетического соединения ряда явлений в одно, вобравшее в себя множество типичных случаев. И судьба произведений самого Ивана Катаева — лучшее тому подтверждение. Многие его очерки остались лишь ярким и характерным свидетельством истории, ее фактов и порожденных ею человеческих чувств и мыслей. В то же время лучшие из его повестей и рассказов — «Сердце», «Поэт», «Молоко», «Ленинградское шоссе» — продолжают свою непосредственную жизнь в душах новых и новых поколений читателей, по-своему воспринимающих их образы, сообразующих эти образы со своими мыслями и чувствами, со всем своим жизненным опытом, далеко ушедшим во времени от того, что довелось видеть и знать Ивану Катаеву: ведь при встрече читателя с художественным произведением прошлого всегда происходит взаимообогащающий обмен историческим опытом поколений.
Показательно, что повесть «Встреча» (1935), продолжающая в творчестве писателя тему преобразующейся деревни, сложность ее нового пути, тему, начатую в «Молоке», будет написана тол^ю после того, как Катаев-публицист снова и снова изучит многоаспектные проблемы, стоящие перед крестьянством на этом пути. И сначала он издаст книгу «деревенских», как сказали бы сейчас, очерков «Движение» — очерков о коллективизации. И только после множества эмпирических наблюдений и глубоких размышлений о случившемся сочтет он себя вправе перейти к художественному их обобщению.
Основой сюжета этой повести станет рассказ о крутом переломе в жизни одного из знаменитых в начале 30-х годов «двадцатипятитысячников», инженера, посланного партией из города в деревню, чтобы возглавить работу колхоза. Но реалистическая глубина изображения, человечность и поэзия сосредоточены в повести не столько на фигуре инженера Калманова, сколько на судьбе деревенского бедняка Киргохи Битого-поротого. Рассказ о том, как в последнем человеке деревни Онучино постепенно, с трудом пробуждается надежда и достоинство, наполнен точными и трогательными штрихами деревенского быта и психологии. При этом и здесь Иван Катаев остается и точным реалистом-бытописателем, и лириком, мыслящим широкими философско-социологическими категориями, и мыслителем, озабоченным судьбой миллионов человеческих личностей, одухотворенным надеждой, что и они приобщатся к высокой культуре, накопленной веками человеческого труда, но доступной еще немногим. «Скорей, « Корей научить, пока длятся их жизни», — мечтает Кидманов. У Ивана Катаева никогда нет разрыва между мечтой о всеобщем счастье и любовной заботой о каждом отдельном человеке.
Но наиболее полно, цельно и художественно органично, на мой взгляд, все аспекты катаевского мировосприятия и его писательского таланта выразились в рассказе 1932 года «Ленинградское шоссе». Этот рассказ о похоронах старика отца съехавшимися в родное нищее и гнилое гнездо детьми по праву можно отнести к числу классических произведений советской прозы. Живучесть и емкость подобного простого сюжета в наше время продемонстрировал В. Распутин в «Последнем сроке». Соотнести эти два замечательных произведения советской прозы и вывести некоторые особенности ее исторического движения на этих примерах — заманчивая задача для исследователей литературы. Точное, честное поэтическое свидетельство Ивана Катаева о времени, когда он создавал «Ленинградское шоссе», о первомайско-пасхальных днях 1932 года, в которые и происходят его простые события, — это поэтическое свидетельство обладает качествами высокого реализма. Плотная насыщенность рассказа психологической, бытовой, исторической, живописной правдой дает этому рассказу особую силу воздействия на читателя: он начинает думать о его героях как о живых людях, он начинает видеть не только их нищее, трудное, общее прошлое, но и представлять их возможное будущее — такое, вероятно, разное, такое, возможно, драматичное. На этот путь размышлений толкает читателя весь поэтический строй рассказа. Именно в «Ленинградском шоссе» писателю удалось достичь постоянно искомого им гармоничного единства в изображении отдельных судеб современников и общего движения истории. «С той крайней и щемящей силой, с какой только могут дома и улицы подступать к сердцу чувством непрерывного скольжения времени, — рассказывает автор «Ленинградского шоссе», — эта часть города, вытянувшаяся вдоль дороги к второй столице, обуревала дыханием минувшего». Следя за сменой примет знакомого ландшафта — Петровский дворец, ставший военной академией, Ходынское поле, превратившееся в аэродром, еще строящийся стадион «Динамо», еще стоящая на прежнем месте у Белорусского вокзала Триумфальная арка и, наконец, итог этого прямого как стрела пути, устремленного к центру столицы, — «пирамидальная гробница с двумя часовыми у входа», писатель направляет свое воображение от прошлого в будущее. Он пытается его угадать и в чертах лиц членов семьи Пантелеевых, так точно выражающих своими жизнями исторический путь российского пролетариата.
Честнейший реалист, внимательный наблюдатель-социолог, Иван Катаев при всей простоте сюжета рассказа глубоко выявляет еле заметные, но уже чреватые сложными последствиями противоречия внутри одной семьи. Тяжелый образ смерти и светящийся образ весны — равно реальные, равно неотменимые в своем естественном взаимодействии, являют в рассказе некое поэтическое равновесие между грубыми силами косности и инерции и нежными, легкими, стремительными силами рождения, движения, обновления. Для романтика 30-х годов именно в таком соотношении представала диалектика жизни и истории: несмотря на трезвое прозрение опасных их тенденций, писатель верит, что вместе с тяжелым мертвым телом и неуклюжим гробом отца Пантелеевы хоронят темное наследие прошлого, а остается с ними, возьмет верх, разовьется и расцветет все то красивое и светлое, что воплотилось в лице матери. Это она хранила семью своим «крылом при всех разрушительных переменах», это она растила и питала детей, учила их «честности и доброте». И конечно, непременно победит доброе. Как может быть иначе?