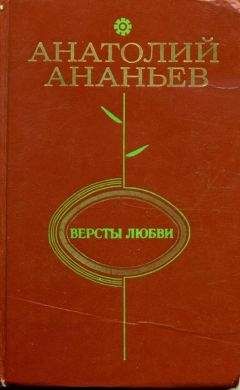— Конечно, — подтвердил я.
— Только не здесь, не среди этого шума и чада. Вернемся в номер, и если у вас по-прежнему будет желание...
— Разумеется, — снова подтвердил я.
Я давно заметил, и заметил это прежде всего по себе, что чужая жизнь всегда интересна людям; я люблю слушать, особенно про войну. Чувства, которые пережили люди в те годы, наверное, неповторимы; но вместе с тем каждый раз, когда я слушаю рассказ старого военного, мне кажется, что я понимаю, что испытывал он в разные минуты боя, и именно это, что понимаю и как бы сопереживаю с ним, это всегда оставляет в душе приятный и неизгладимый след. «Ну что ж, будет неплохой вечер», — про себя говорю я, глядя на Евгения Ивановича и все более убеждаясь в том, что, должно быть, что-то интересное и чрезвычайное было в жизни этого человека. Но то, что услышал я, когда мы, придя в номер, устроились в креслах друг против друга у полуоткрытой балконной двери, превзошло все ожидания и предположения; мне и теперь кажется, что я не просто слушал и смотрел на Евгения Ивановича, но словно сам принимал участие в тех событиях, о которых рассказывал он. Мы сидели так, что я хорошо видел его лицо, которое сначала было освещено еще ярким предзакатным уличным светом, а потом, когда стемнело, — и люстрой, и зажженной за моею спиной на письменном столе голубою настольною лампой; я видел его глаза, руки, которые он большей частью держал на коленях, то сцепив пальцы, то просто положив ладонь на ладонь; в голосе его не было особенной взволнованности, он говорил ровно и даже как будто спокойно, но за каждым словом чувствовалась большая наболевшая правда. Он рассказывал все так, что ни о чем не нужно было дополнительно расспрашивать, и за весь вечер я, кажется, не произнес ни одного звука, слушая Евгения Ивановича.
— Прежде мне часто казалось, что жизнь человеческая состоит из цепи случайностей, — начал Евгений Иванович. — В детстве, например, я мечтал стать военным. Дело доходило до смешного. Бывало так: идем куда-нибудь с матерью по городу, и не дай бог если навстречу попадется колонна солдат. Стану будто вкопанный и смотрю, как идут бойцы, и тут уже никакая сила не сдвинет меня с места, пока колонна не скроется за углом. Мечтал, думал, фантазировал, знаете ли, в своем мальчишеском воображении, а в жизни все получилось иначе — не только до генерала, но и до капитана не дослужился, и не по своей, разумеется, вине. А вот еще, если хотите: в школе я больше всего любил географию и ботанику, а в педагогический институт поступил на факультет математики. Почему? Да потому, что, когда был на подготовительном курсе, мне понравились уроки, которые давал математик Иван Иванович Ким. Кореец. Он так увлекательно и так виртуозно доказывал теоремы, что не только я, многие из нашего потока поступили тогда на математический. А если бы не было Кима, а был кто-то другой? Десятки раз можно сказать «если», но суть от этого вряд ли изменится. Когда я уходил на фронт, была у меня невеста, ну может быть, не совсем невеста, договоренности между нами не было, но я любил ее, и мне казалось, что я женюсь только на ней, Рае Скворцовой, и что никого на свете, кроме нее, мне не надо, я и прощался больше с ней, чем с матерью, и письмо первое с фронта написал ей, но ведь в жизни не получилось так, как было задумано, и опять, если хотите, виновата какая-то нелепая случайность. Вот здесь, в Калинковичах, во время войны я встретил другую девушку, Ксеню, и она сразу как бы перечеркнула все мои мечты и планы, но и с ней не свела меня судьба близко, и живу я сейчас ни женатый, ни холостой, а так, что-то между: вроде и дом есть, и женщина в доме, и в то же время такое ощущение, словно все вокруг тебя пусто, какая-то тяжесть, постоянная тревога на сердце; в таких случаях говорят — томится душа, и это, мне думается, очень точное выражение. Вроде и работа есть, специальность, и как будто люблю я свою работу — какой еще вы найдете на свете более удивительный и податливый материал, чем дети! — а удовлетворения и спокойствия нет. Когда в Чите — думаю о том, что здесь, в Калинковичах, тянет сюда (я же читинец, сибиряк); когда здесь — начинаю волноваться, что и как там, дома, и тянет туда. Так к мотаюсь, а почему? Что это, безволие? Эгоистическое желание чего-то такого, что выше обычных человеческих потребностей, и чего, собственно, не может дать жизнь? Или — от большого чувства? Но что такое большое чувство и зачем оно, если не приносит человеку удовлетворения и счастья? Не берусь, разумеется утверждать, но полагаю, что еще более неисследованными, чем космос, являются человеческие чувства. Как они возникают, от чего зависит все, почему, к примеру, мне нравится синий цвет, а другому зеленый? Природа любви, долга, чести? Все написанное об этом (по крайней мере, из того, что я прочитал) можно сравнить лишь с понятием «степь широка». Да, степь широка, не не больше, да, у человека есть любовь, но что это за сила, как измерить, скажем, ее мускулы, величину, измерить, в сущности, душу, некий такой абстрактный, нематериальный, как принято считать, комочек человеческих переживаний, — тут уж мало сказать только, что «степь широка».
Я не психолог, а математик, и, может быть, многие суждения мои покажутся вам дилетантскими, но деле не в этом; скажите, вы смогли бы объяснить, почему — вы женаты? — почему, допустим, вы полюбили эту женщину, которая стала вашей женой, а не какую-нибудь другую, почему именно она представлялась вам, может быть, представляется и теперь самой лучшей, доброй, единственной и неповторимой, тогда как вокруг, стоит лишь оглянуться, живут десятки других красивых женщин и, очевидно, не менее добрых, но они не прельщают вас, вы равнодушно проходите мимо — почему? Можно пуститься сейчас в воспоминания и перечислить многие достоинства вашей супруги, которые, кстати, выявились уже потом, в совместной жизни, как, впрочем, и некоторые неприятные черты (они есть у каждого человека!), но ведь в то время, когда вы впервые встретились с ней, вы же ничего этого не знали, ну, в лучшем случае что-то предполагали, а в общем-то, какая-то совершенно необъяснимая сила тянула вас к этой женщине. Что это за необъяснимая сила? Она же была в вас, вы носили ее? Она была и во мне, возникала и угасала, вы понимаете, во мне самом, не то что где-то в космосе, а я не знаю, что это такое, не могу постичь.
Конечно, проще всего сказать: такова природа человека, и это тоже будет объяснение. Но разве оно дает возможность мне управлять моими чувствами, приводить их в соответствие с разумом? Я понимаю, что, допустим, мне нельзя любить ее, нельзя, а я люблю; или, напротив, знаю, она хорошая и достойна большой любви, знаю, что ее надо любить, а не могу. Не могу! И это, знаете, страшно.
Вы не думайте, что я занимаюсь каким-то исследованием в этой области; я говорю вам сейчас об этом потому, что мне самому выпала на долю такая жизнь, эти волнения, и вот теперь, к сорока пяти годам, когда, видите, я уже весь седой и когда жизнь, в сущности, как говорят в таких случаях, уже сделана, — с какой-то опять-таки непонятной навязчивостью, как будто кто-то заставляет меня, я день за днем возвращаюсь к прожитым годам и стараюсь уяснить себе, почему именно моя жизнь сложилась так, а не иначе, где начало и где конец чувствам и переживаниям. Я никогда, разумеется, не напишу об этом книгу, но так уж, наверное, устроен человек, что вольно или невольно он не только старается обобщить накопленный опыт, но и передать этот свой опыт жизни другому. Может быть, потому и я так подробно сейчас рассказываю вам о себе.
С чего все началось?
Жизнь, конечно же, не цепь случайностей; одно вытекает из другого, все связано, переплетено, обычно десятки обстоятельств, сотни подробностей определяют тот или иной, зачастую кажущийся нам неожиданным поступок. Надо же было, чтобы дивизия, в которой я служил, воевала в составе Первого Белорусского фронта и чтобы мы прорывали линию обороны именно здесь, под Калинковичами, и наступали затем на Калинковичи (в сорок четвертом, в январе, если помните, мы хотели захлопнуть несколько немецких дивизий в очередной, Калинковичский котел), и, главное, надо же было, чтобы я командовал орудиями как раз в этой батарее, которую бросили на подмогу танкистам, и чтобы бой был именно таким, каким был, и я пережил тот страх и то возбуждение и радость, те чувства, какие и теперь, когда вспоминаю, видите, морозом пробегают по мне.
Мы стояли справа от дороги, в лесу, приготовив орудия к бою; перед нами лежало болото, заросшее высоким кустарником, и сквозь этот кустарник, синий от игольчатого инея, ничего не было видно, что делалось впереди. Какая-то немецкая батарея издали и методически обстреливала лес. Снаряды рвались вверху, задевая за макушки деревьев, рвались с таким резким, как будто обрушивающимся грохотом, что даже привычных, казалось бы, уже ко всему солдат охватывало неприятное и жуткое чувство. Я видел это по их лицам, по тому, как они жались к стенкам наскоро вырытых щелей; да и сам я тоже с чувством обреченности прислушивался к разрывам. Ни окоп, ни ровик, ни щель при таком обстреле не укрытие; осколки летят вниз, как град, под прямым углом, и треск по лесу — словно прокатывается над головой сильная низкая гроза. А мы не стреляем, цели не видно, комбат никакой команды не подает; но и стрелять-то, собственно, опасно — наша пехота уже просочилась сквозь кустарник и топь на противоположный берег и вела бой где-то то ли в деревне (деревня Гольцы), то ли еще у околицы, а танки, которые должны были поддерживать ее, стояли за лесом, за нами, и не двигались с места; по болоту они не могли пройти, а дорога и бревенчатый настил через болото насквозь простреливались двумя, как потом выяснилось, немецкими самоходками. Двумя «фердинандами». Перекрыли дорогу и держат. Уже одиннадцать, двенадцатый час, наступление захлебывается, пехоту нашу теснят, вот-вот сбросят в болото. На дороге горят два наших танка, танкисты один за одним выскакивают из люков, и это происходит буквально на наших глазах. Метрах в трехстах за танками, на обочине дороги, чей-то расчет устанавливает восьмидесятипятимиллиметровую зенитную пушку. Через минуту-две начнется дуэль между зенитчиками и немецкими самоходками, я знаю это и неотрывно слежу за действиями зенитчиков. И бойцы мои смотрят. А по лесу все так же прокатывается треск разрывов, летят вниз срезанные ветви, осколки, и в этом раскатистом грохоте не слышно было, когда выстрелили зенитчики; только вдруг — синяя вспышка, мгновенная, как молния, и красная, стелющаяся над дорогой трасса бронебойного снаряда, метнувшаяся в кустарник, и сейчас же — раз! раз! раз! раз! — четыре такие же огненные трассы вынырнули из кустарника, и один за одним вспыхнули разрывы позади зенитчиков. Снова трасса в кустарник, и снова целая серия огненных пунктиров назад, к зенитчикам, и нам хорошо было видно, как немецкий снаряд угодил в орудие, разметав стоявших возле него бойцов. Черная воронка еще дымилась, а чуть выше нее зенитчики уже выкатывали второе орудие, и снова с минуты на минуту должна была начаться дуэль. Как раз в это время и вызвал меня к себе командир батареи капитан Филев. Василий Александрович Филев, я еще расскажу о нем, это был смелый на войне человек.