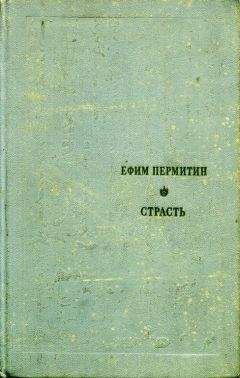Со многими из них меня связывали многолетние совместные охоты и тесная дружба.
Написать о всех невозможно. Да и не все умеющие стрелять или даже пишущие об охоте — охотники, в том высоком понимании и толковании этого поэтического слова, как понимали его классики русской литературы и матерые охотники — Аксаков, Толстой, Тургенев.
Одним из тех, для кого охота, общение с природой были насущной потребностью, источником живой жизни, я считаю лучшего своего друга, человека широкого размаха и редкостной души, автора замечательной книги, к сожалению, давно уже ставшей библиографической редкостью, «Годы, тропы, ружье», — безвременно погибшего в 1937 году Валерьяна Павловича Правдухина.
О. первом, личном, знакомстве с Валерьяном Правдухиным приведу несколько строк из его книги. Делаю я это с целью «одним выстрелом убить двух зайцев»: хотя бы в выдержках ознакомить читателей со стилем письма моего друга и в то же время проникновенными словами самого автора передать ощущения, пережитые им в дни, когда он, одержимый хроническим своим недугом охотничьего бродяжничества по стране, из Ленинграда приехал к нам в Новосибирск. «Просидишь шесть месяцев в комнате, у печки, за столом, проваляешься на кровати, и незаметно душа очерствеет; отвыкнет от природы. Перестаешь думать о травах, о зверях, о птицах. Успокоишься и считаешь, что так оно и надо: жить тебе в тупиках комнат, под городскими немыми звуками, с пустенькими чувствицами, и без запахов полей, без звериного напряжения, без простых больших волнений. И уже нет желания выбраться на холодноватый простор полей, бродить опушками… Чужаком становишься природе и миру! Так было со мной в тот год. Всю зиму я не был на охоте…»
И вот Валерьян Правдухин уже в Новосибирске, где в двадцатых годах он с Сейфуллиной и Емельяном Ярославским создавал журнал «Сибирские огни».
«…Пошел ввечеру в городской сад… и увидел я под забором земляную плешину, на ней старую траву, пытавшуюся по весне снова ожить, зазеленеть. Эта плешина, а над ней холодноватое голубое небо, свежие весенние запахи так потрясли меня, что я готов был тут же лечь на землю, прижаться к ней, слушая ее дыхание. И когда ночью прибежал к Зарубину Ефим Пермитин — Ефимий, как зовут его друзья, жадный и вдохновенный охотник, — и стал сманивать нас за Колывань на Тойские болота, я понял, что отказать у меня нет сил…
…И вдруг в ухо до жути близкое, по-домашнему спокойное: «га-га-га-га…» Ищу испуганно птиц в небе и не вижу. Но ведь гогот рядом. Да где же они? Трясет озноб. «Га-га-га…» Еще ближе… Вот они. Прямо на меня, низом, по земле, за кустами, летят штук двенадцать гусей спокойным, ровным треугольником. Красиво, ритмично покачиваются, и уже видны их темные носы, сероватое оперение… Не шевелюсь. Шепчу:
— Спокойно, друг, спокойно…
Встать успею, лишь бы не свернули. Вот они. Серые, черноватые, круглые, живые гуси. Впервые в жизни вижу так близко стаю. Впервые пожираю глазами вольный лет диких гусей. Они наплывают на мой куст. До них метров сорок, уже можно стрелять. Но я не буду целиться сквозь густые ветки. Я не побегу к ним навстречу.
Спокойно, друг, спокойно! Пропусти их набок, на поляну. Быстро меняю позу. Стволы выкинуты на голубую полоску неба, где должны проплыть птицы. Мгновение огромно. Небо нависло надо мной в немом и жгучем ожидании. Гуси вылетают на поляну, чуть-чуть обеспокоенные. Крепко, уверенно целюсь в передового. Две четверти вперед. Жму гашетку. Спорый удар заряда отзывается во мне крепким поцелуем. Гусь мертвым грузным комом стукается оземь. Есть! Второй выстрел делаю в радостном ознобе, не целясь, прямо по смешавшейся и загоготавшей стае! Это всегда промах. Ну, ничего, почин сделан. Гусь убит. Вот он. Лежит, раскинув крылья по снегу. Взвешиваю его на руке. Тяжелая, крепкая птица. Осматриваю со всех сторон. По черному носу — желтое кольцо. Гусь-кольценос, гуменник…
— Милый гусь, — шепчу я успокоенно. И уже по-другому, без зависти, слушаю буханье по сторонам…
…Ночью скачем обратно в Колывань, простившись с Тойскими болотами. Мороз, холодные просторы, светло и ясно. Дремлем. Снятся гуси, слышится их вольный гогот. Снова летят под луной белые лебеди. Пермитин задумчиво поет песни и рассказывает, как прошлой осенью он неделю скакал по полям за улетающими гусями, как три дня гонялся по озеру Чаны в челноке за лебедями».
Совместная охота эта, так правдиво и живописно переданная Валерьяном Правдухиным в очерке «На гусином займище», и положила прочное начало нашей дружбе.
На титульном листе объемистого томика второго издания книги «Годы, тропы, ружье», бережно хранимой в моей библиотеке, надпись: «Ефимию Николаевичу Пермитину с надеждой твердой вместе протопать не одну охотничью путину. Побродить с ружьем в наших просторах и сжечь не один костер под ситцевым небом Родины. Автор. В. Правдухин. 21 октября 1932 г. Москва».
Надежда, высказанная Валерьяном Правдухиным в автографе, сбылась: вскоре из Сибири я переехал в Москву, а Правдухин и Сейфуллина (Валерьян Павлович был мужем Лидии Николаевны) из Ленинграда тоже перебрались в столицу.
С тех пор, вплоть до черной осени 1937 года, мы встречались почти ежедневно и охотились только вместе: «протопали не одну охотничью путину. Сожгли не один костер под ситцевым небом Родины».
Весну мы обычно встречали на лабзах — в непролазных, рыжих камышах родной моей Сибири на озере Чаны, окружностью до восьмисот километров. Там мы слушали всегда волнующий охотничьи сердца гогот сторожких местовых гусей, любовались неисчислимыми станицами пролетной крикливой казары, величественными табунами доверчиво-кротких, почти бесстрашных лебедей (в Сибири по ним редко стреляют), стремительными косяками утьвы всех пород, как сетью кроющих апрельское небо над обширной низменностью знаменитой Барабы.
Лето — на родине Валерьяна. Полтора, а то и два месяца мы плавали по излюбленному всей большой дружной семьей братьев Правдухиных «седому Яикушке» — песенному Уралу: в глубоких, кружащих пену омутах его ловили богатырски сильных, буйных на уде сазанов, в ковыльной приуральской степи стреляли пугающе-трескучих на взлете куропаток и стрепетов.
Осенями гоняли дымчатых «подцвелых» русаков в опустелых, по-зимнему гулких подмосковных полях и перелесках.
И как же радовал красивый выстрел друга по мелькнувшему между елок зайчишке-выторопеню, дуплет по налетевшим осенним жирным крыжням уже в темноте, уже отстояв зорю: «на шум крыльев», по внезапно возникшим силуэтам!..
Я нисколько не преувеличу, сказав: мы не только сдружились, но душевно сроднились друг с другом. Охотиться в одиночку нам уже не доставляло радости.
Да разве и можно представить себе что-нибудь лучше, как, набродившись и порядком устав за день, вдвоем с другом весенней ночью сидеть у пылающего костра, смотреть на звездное небо над головой и слушать задумчивый переклик-посвист, точно в пастушью свистелку, неторопливых кроншнепов на мочажине! По мелодично-тонкому позвякиванию определять крошечного куличка-воробья, угадывать истерические выкрики авдоток и веретенников в пойменных лугах. А припав ухом к оживающей земле, улавливать и таинственные вздохи бездонно-топких бочагов и хрустально-ломкий звон родника, пробивающегося из ее недр.
А осенние ночлеги у ометов пахучего сена! Огненные чаши рябин в перелесках. Пустынные желтые поля с пронзительным чиржиканьем потревоженных, скликающихся куропачьих табунов. С незабываемыми запахами чебреца, спелой полынки и кизячьего дыма из далекого аула.
И опять костер, и опять звезды над головой. И сладкая дремота под грустное курлыканье отлетающих журавлей.
Или утрами прохладный осенний воздух, как крепкое вино, и на степных ковылях, на прибрежных песках — серебряной пылью — иней.
И сколько же перечувствовано, переговорено! Охотникам хорошо известно, что нигде так не раскрывается душа человека, как у костра.
В одном из писем ко мне, к сожалению, пропавшем вместе с моим архивом в 1937 году, Валерьян высказал свое понимание охотничьей дружбы. Я передам запомнившиеся его строки, может быть, и не совсем дословно, но верно по смыслу: «Застольный друг до порога: выпил, закусил, поболтал — и прощай. Друг-охотник делит не рюмку вина и хмельную застольную болтовню, а трудности, и не редко большие, охотничьих поездок, удачи и огорчения, а порою и смертельную опасность. На медвежью охоту, как в бой, можно пойти только с подлинным другом.
Я всегда удивляюсь, сколько прекрасного написано о любви и как мало и вяло о мужской дружбе. Только Пушкин в стихотворении «Друзья мои, прекрасен наш союз» да Гоголь в «Тарасе» сказали настоящие огненные слова о «святом товариществе». Но и они далеко не исчерпали этой благородной темы. В меру сил хочется написать о дружбе. Жизни человеку, по сути, отмерено так мало, а сделать хочется так много. Пишу, не разгибаясь. Устал чертовски. Надеюсь, и нынче отдыхать будем вместе. И конечно, весной на Чанах, а летом на седом Яикушке…»