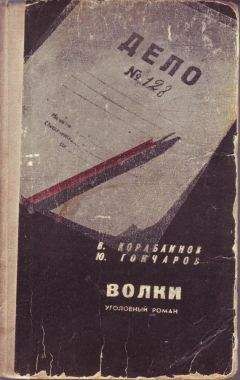– Так что? Вы говорили, что кто-то вылезал из окна мязинского дома. Так?
– Так-то так, – Келелейкин, видимо, испытывал страшные душевные терзания, – да вроде бы и не совсем так… Вы меня тогда спрашивали: а какой он? А я сказал, что будто его не разглядел… А ведь я… разглядел…
Баранников весь напрягся, вытянулся вперед, как скульптурная композиция, известная под названием «К звездам».
И даже Костя, как бы предвкушая услышать нечто значительное и даже, может быть, решающее все дело, замер, затаил дыхание и крепко сжал в кулаки сразу вдруг вспотевшие пальцы.
– Точно видел, – медленно, раздельно, словно через силу, промолвил Келелейкин. – И прошел он мимо меня прямо вот этак, рядом, плечо к плечу…
– И вы, таким образом, хорошо его рассмотрели? – подскочил Баранников.
– Очень даже хорошо. Роста вроде бы среднего, пожилой мужчина…
– Лицо! Лицо! – простонал Баранников. – Оно вам знакомо? Из местных кто-нибудь?
– Никак нет, не из местных… Но очень даже замечательное лицо – весь черный, прямо сказать, жуково́й… И волосней, знаете, зарос – ужас! Как, значит, ширнул на меня этак глазищами, так, честно говорю, душа в пятки ушла. Страшон! Не приведи господь, как страшон!
– А что на голове? – встрепенулся Костя неожиданно. – На голове что – не заметили?
– Да, признаться, не присматривался, но, вспоминаю, вроде бы кепка, что ли… этакая, знаете, лопушком, набочок…
– Так что же вы сразу не сказали? – с досадой крикнул Баранников. – На первом же допросе, сразу – тогда, утром?
– Оробел. – еле выдавил из себя Келелейкин. – Совестно признаться, товарищ следователь, а оробел… Убьет, думаю себе, такой негодяй – и будь здоров! Места наши глухие, хожу в ночную смену… Простите великодушно… Оробел!
Откинувшись на спинку стула, Баранников переводил взгляд с Келелейкина на Костю. Первый сидел, виновато понурившись, проникнувшись, как видно, запоздалым раскаянием, презрением к своей трусости, второй – вытянув на середину кабинета несуразно длинные ноги, блаженно и даже несколько глуповато улыбаясь, словно вдруг увидел ясно такое, что, кроме него, никто не видит…
Но какую-то, может быть, всего лишь десятую долю минуты находился Костя в таком похожем на транс состоянии. Решительно, быстро, скачком переместился он вместе со стулом к столу, резким движением отодвинул баранниковские бумаги.
– Давайте-ка все сначала, – сказал он Келелейкину. – Рост. Выше вас? Ниже?
– Маленько повыше. Ненамного.
– Вы говорите – зарос волосами. Что это – простая небритость или настоящая борода?
Баранников таращил глаза на Костю, слова не мог вымолвить от изумления. Он его просто не узнавал: куда девалась дурацкая ухмылка, мечтательное спокойствие, мешковатость? Весь – как стальная пружина, острый, колючий взгляд, четкие, уверенные движения. Эк его, словно тигр метнулся в прыжке! Сдвинул бумаги на столе, клещами впился в Келелейкина… Будто не Баранников тут хозяин, а он, Костя… И даже Келелейкин как-то подобрался, выпрямился, перестал терзать фуражку… Не мнется, не тянет, не шепчет свои бесконечные «как бы сказать» да «извините великодушно», а охотно, по-солдатски отвечает – точно и деловито.
– Борода? Нет, какая борода, с месяц, видать, просто не брился, зарос…
– А почему вы думаете, что именно – месяц? Почему не два, не три?
– Да ну, какой – два! На палец всего и отросла, не ухожена. Одним словом сказать, не фасонная борода.
– Кепка какого цвета?
– Трудно сказать, но несомненно – светлая.
– Пиджак? Пальто?
– Пиджачок плохонький. Похоже, чужой, не по фигуре, весь обвис…
– Хорошо помните, что обвис?
– Так точно.
– Великолепно! – Костя даже руки потер. – Ну, Виктор, кажется, мы наконец взяли настоящий след! Теперь вот что: самый момент прыжка вы видели? Как окно открывалось. Как человек появился на подоконнике. Как опустился на землю.
– Как окно открывалось, не видал – слышал. Шел, знаете, о своем думал, не приглядывался. А как стукнула рама – глянул: мать честная, на меня прямиком ломит! Это, значит, черный-то…
– И он вас сразу заметил?
– Надо полагать, нет. Со свету сразу не заметишь.
– А, так, значит, у Мязина в комнате горел свет? Какой свет?
– Ну, обыкновенный, электрический. У Афанасия Трифоныча всегда яркая лампочка горела.
– Хорошо. Теперь дальше. Вы показали на первом допросе, что, когда человек удалился, вы подошли к окну, попробовали раму, а она оказалась запертой изнутри. Кто же, по-вашему, ее закрыл?
– Не могу знать. Я просто подошел, а пробовать не пробовал.
– Что вы путаете, Келелейкин! – вспылил Баранников, выхватывая из папки протокол. – Вот они, ваши показания! Так… «Возле дома Мязина…» М-м… «Скрылся в темноте…» Ага, вот! «После чего я подошел и попробовал раму»… Попробовал. Черным по белому.
– Разве я тогда так выразился? Хотел попробовать, подергать, это да. Вот так, Помнится, вроде бы я говорил… Но потом не решился – а ну как там еще какой: тюкнет – и будьте любезны!
– Ну, хорошо, значит – подошли… – Костя нетерпеливо ерзал на стуле, пока Баранников уличал Келелейкина. – Побоялись стучать в окно. Допустим. Но раз вы оказались свидетелем такого факта: ночь, стукнула рама, кто-то подозрительный отходит от дома, – почему не подняли тревоги? Почему не дали знать соседям?
Келелейкин, затрудняясь объяснить, смущенно развел руками.
– Я постоял с минуту под окном, послушал. Вижу – свет горит, занавесочки задернуты, в доме полная тишина…
Баранников дернулся, хотел, видимо, задать какой-то вопрос еще, но Костя движением руки остановил его.
– А вот если б вам довелось встретиться с тем человеком – могли бы вы его опознать?
– Думаю, что мог бы…
– Отлично! В таком случае, – круто обернулся Костя к Баранникову, – пиши постановление…
– Какое постановление? – опешил Виктор.
– Ну, какое! О задержании Авалиани.
– Кого? Кого? А-ва-ли…?
– А-ва-ли-а-ни. Вот. – Костя подвинул Баранникову листок бланка. – Давай. По буквам: Алексей, Василий, Алексей, Лидия, Иван, Алексей, Николай, Иван…. А-ва-ли-а-ни. Так. Правильно. Имя – Арчил. Отчество – Георгиевич.
– Но кто это?
– Фу, боже мой, – кто-кто! Икс!
Пожимая плечами, Баранников послушно писал.
– Можно? – просовывая голову в дверь, пропела какая-то рослая, пожилая, но еще довольно красивая женщина с несколько, правда, туповатым и сонным лицом. – К кому мне тут? Я по телеграмме… Мухаметжанова. Лизавета Петровна…
– Очень кстати! – обрадовался Костя. – Вот все вместе и пойдем.
– Но куда? Куда? – совсем сбитый с толку, спросил Баранников.
– Да тут… в одно место… – неопределенно махнул рукой Костя. – Между прочим, можешь поставить на своей карточке под Иксом: Мухаметжанов. Яков. Ибрагимович.
А через каких-нибудь полчаса в комнату дежурного по райотделу вошли двое: седоватый сухонький гражданин в габардиновом, военного покроя плаще и брезентовых, пыльного цвета сапожках и немолодая, но явно молодящаяся женщина с густо напудренным широким лицом.
Старичок предъявил дежурному какой-то документ и спросил, где можно найти товарища Поперечного или Баранникова.
– В цирк пошли, товарищ капитан, – вежливо козырнув, отрапортовал дежурный.
– Что-о? – не понял старичок. – Куда?
– В цирк! – гаркнул дежурный, справедливо полагая, что незнакомый пожилой капитан маленько туговат на ухо.
В заключении врача говорилось, что смерть гражданина Авалиани А. Г. наступила в результате перелома шейного отдела позвоночника и одновременного кровоизлияния в мозг.
Примостившись за каким-то пестро размалеванным ящиком из реквизита фрау Коплих, лейтенант Мрыхин писал протокол о происшествии. Перед ним лежал раскрытый на первой странице, видавший виды, потрепанный паспорт, и всякий раз, когда требовалось упомянуть фамилию потерпевшего, лейтенант заглядывал в паспорт, ибо имя и фамилия были необычны, трудны для запоминания.
Тот же, кто еще вчера назывался этим редкостным и звучным именем, лежал бездыханный на таких же составленных рядом, пестрых ящиках и равнодушно глядел из-под неплотно прикрытых синеватых век мутными белками уже ничего не видящих глаз.
Размахивая коротенькими ручками, то и дело вспыхивая золотыми коронками зубов, суетился директор, что-то объясняя, выговаривая фрау Коплих. Ее помощник, униформисты, актеры, рабочие толклись в довольно узком проходе у клеток. Черная пантера, львица, гиена, волки и тощие, облезлые лисы беспокойно метались в своих неубранных, тесных жилищах… Острый, удушливый звериный запах стоял так крепко, так непробиваемо, что лейтенанту, не привычному к цирковым задворкам, приходилось частенько вынимать из кармана носовой платок и прижимать его к носу.
И лишь двое оставались величественно, непоколебимо спокойны, презрительно щурили холодные глаза и глядели свысока, всем видом своим показывая, что все, что произошло, что сейчас мелькает перед ними, – все это такая незначительная мелочь, на которую и обращать внимания не стоило бы…