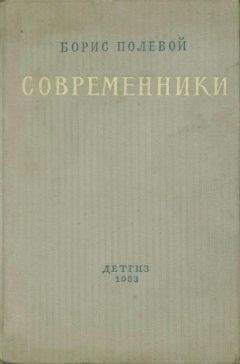слов!» Дверью — бац и в путь...
Парень сидел, покусывая травинку. Он смотрел не в мою сторону, а куда-то вдаль, где зеленоватая вода сливалась с таким же серо-зелёным небом. Должно быть, он испытывал сейчас ту неудержимую страсть всё рассказать незнакомому человеку, то властное желание с кем-то поделиться пережитым, какое приходит в иную минуту к самым замкнутым людям.
— Н-да... А ведь скажу вам по совести — чуть не сбежал с канала обратно. Да-да, вы что думаете! Это ведь в газетах читать легко, а работать тут не всякому по разуму. Я у себя и комбайнер хороший, и в слесарной не последний человек, но то эмтеэсовская мастерская, а тут вон оно всё какое! Вверх взглянешь — шапка валится. И комбайн наш — степной дредноут, как у нас в районной газете один всё пишет, — он, если его со всем этим посравнять, букашка не букашка, а так, жучок! И обратно — работа. Это ведь я так бреханул, что мол монтажник и комбайнер — чуть что не соседи: там металл, тут металл... Как же, держи карман шире! Металл-то металл, а габариты разные, всё равно что хедер и серп...
Ну, в отделе кадров меня легко оформили, когда я им все свои грамоты вывалил. Благословили меня как человека, с механикой знакомого, прямо — на монтаж в бригаду к одному тут дяде, украинцу, известному человеку, который ещё за Днепрострой орден Ленина имеет. Вот с орденоносцем-то с этим у меня и началось. Мастерище он, верно, знаменитый, такого другого, может, и вовсе нет, но характер у него, авторитетно вам заявляю, прямо автогенный: чуть что — взрыв! А главное, всё ему на свете просто, и никак он в толк не хочет взять, что люди-то разные, по-разному, в разные сроки понятия к ним приходят. И ещё он, вроде меня, стройкой болел. Страшно он переживал, когда кто чего не так сделает! Так бывало, как котёнка, носом и ткнёт!
Ну я терпел, терпел, да и не стерпел — схватился с ним. Говорю: «Если у тебя орден, так тебе и задаваться можно? У меня мол у самого Трудовое Знамя, только я его не ношу; я мол лучший комбайнер в районе и орать на себя не позволю». Как он взовьётся! «Ты, говорит, такой-сякой, где — на Волге-Доне на монтаже или в артели «Напрасный труд» примусные иголки чинишь? Тебе, кричит, доверие оказали, взяли сюда, а ты мне бригаду разлагать?» И прямо ляпает мне: «Демагог»... «Хочешь, говорит, дальше работать, слушайся, учись! День учись, ночь учись, без отдыха и срока, и характер, говорит, свой спрячь подальше. С рыжим волосом тебя в бригаде своей стерплю, а с рыжим характером мне не надо».
Решил я в тот же день уходить. А что? Действительно, каково тебе, когда после почёта да этак-то с тобой разговаривают? Так меня потянуло назад в МТС, будто лучшего места и нет на свете. Думал-думал ночью — и так нехорошо, и так неладно, и решил: не иначе, мне на следующее утро идти к прорабу насчет увольнения. С тем и уснул.
И понимаете ли, дело какое! Сплю я и вижу во сне: являюсь будто бы к себе в мастерскую, явно так всех вижу — и Василия Парфёныча, и Надю-нарядчицу, и всех наших ребят. Вхожу я и говорю: «Здравствуйте, хлопцы! По всему видать, у вас тут без меня запарка, вот я на помощь к вам и прибыл...» И вижу, никто со мной не здоровается и все будто смотрят куда-то не на меня, а мне за спину. Оглянулся — позади дверь открыта, за дверью степь, снега синеют. Спрашиваю: «В чём дело, куда смотрите?» А Василий Парфёныч будто спрашивает меня: «А где же море, что ж ты его к нам не привёл? Кишка тонка — не выдержала...» И все смеются, а Надя-нарядчица пуще всех. И такой у неё смех обидный, будто она меня иголками язвит...
Проснулся я в испарине, точно с банного полка́ свалился. Ведь пригрезится же такое! А главное, дальше так глаз и не закрыл.
Ну, а на следующее утро нашёл я бригадира своего знаменитого, отвёл его в сторону, извинился за вчерашнее, обещал рыжий мой характер не обнаруживать и учиться всему, чему он укажет. «Хоть за электродами, говорю, в кладовку бегать, а только в бригаде оставь». Оставил — и не зря: не жалел потом. Хвалиться не стану: в первой пятёрке среди монтажников был; как где что заест, бригадир туда — меня: исправляй, раскумекивай... Там вон у шлюза и сейчас на почётной доске физиономия моя красуется. Да дело и не в том — не впервой мне на почётной-то доске сидеть. Главное, что со стройки к себе в МТС возвращусь с таким багажом, что этот-то багаж перед ним тьфу! — Он пренебрежительно плюнул в сторону туго набитого своего вещевого мешка: — Длинный рубль! Я вернусь, покажу им длинный рубль! Будут знать, как над человеком смеяться: ха-ха, хи-хи! Я им одних благодарностей четыре штуки выложу да телеграмму министра, где моё имя помянуто с положительной стороны... Длинный рубль! У нас, у комбайнеров, он, может быть, и подлиннее, да разве тут в заработке дело!
Где-то внизу на дороге гудела сирена. Запылённая полуторка сигналила явно моему собеседнику, но тот разговорился и будто не слышал её. Тогда шофёр, должно быть обиженный таким невниманием, дал протяжный гудок.
— Чёрт! Аккумуляторы посадит... Слышу, слышу! Соскучились...
Сильным рывком собеседник мой взвалил за спину мешок, подхватил патефон и на самый затылок насадил свою щегольскую бархатистую шляпу.
— А море? — напомнил ему я.
— Море?.. Вот они, мои моря! И это, и другое, и третье. Море меня опередило. В газетах читал, будто в наш район не отсюда, а из самого Цимлянского вода по оросительному ещё весной прошла! Не с пустыми руками возвращаюсь!.. Ну, бывайте здоровы!
Пружинистым шагом сбежал он с высокого откоса туда, вниз, где стояла полуторка.
Внизу, у береговой кромки, где давеча сидел монтажник-комбайнер, остались следы его тяжёлых, подкованных сапог. Зеленоватые волны, набегая, казалось стремились их смыть, но не могли до них доплеснуться.