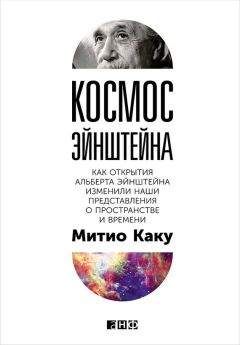XVIII
Не имея нужды ходить на службу и вообще следить за временем,
Вранцов потерял точный счет дням, так что не всегда знал, какое сегодня число, какой день недели. Но конец декабря в Москве ни с чем нельзя было спутать. По улицам, словно покорных связанных пленниц, уже несли новогодние елки. С юга подоспел урожай цитрусовых, и снег местами порыжел от мандариновых корок. Румяноликие деды–морозы и снегурочки поселились в витринах на осыпанной блестками вате. Толпы москвичей и гостей столицы, штурмующих магазины, увеличились впятеро. Начинались каникулы, и детвора с радостным визгом раскатывала повсюду «ледянки», опасные для старшего поколения, но любимые молодым.
Только Вранцов не принимал никакого участия в этой предпраздничной суете и даже нарочно, чтобы не видеть ее, улетал куда–нибудь подальше или скрывался к себе на чердак. Ему не придется встречать Новый год — у ворон таких праздников не бывает. Хотя, что касается жратвы, то у его пернатых собратий праздник начался даже раньше — они вовсю копошились уже возле мусорных бачков, склевывая все, что пошло в отбросы от готовившихся впрок новогодних яств. Студень к праздничному столу еще только застывал в холодильнике, а вываренные мослы от него уже грызли по дворам собаки и обклевывали вороны, не дожидаясь заветного боя курантов в новогоднюю ночь.
И людская суета, и птичья были одинаково противны Вранцову, одинаково угнетали его. В праздник одиночество ощущается еще сильнее, а он был более чем одинок. В каждой квартире готовились к новогоднему торжеству, по вечерам сквозь окна пирамидально светились огоньками елки, — и только он один, не имея ни забот, ни хлопот, торчал у себя на крыше в томительном бездействии, от людей отставший и к воронам не приставший ублюдок, никому не нужное, ни на что не годное существо. Любая кошка, любая собака была ближе к людям, чем он — животные эти хоть об ноги человека могли потереться, а ему и этого не дано.
Окна его квартиры были темны — Вика с Борькой уехали на праздник к родителям. Он мог бы тоже отправиться туда вслед за ними, посмотреть, как встретят они Новый год, но что за радость торчать на морозе под тещиными окнами, смотреть, как она там командует. По всему выходило, что некуда ему податься в новогоднюю ночь, некуда со своего чердака деться. Даже напиться с тоски нет возможности, а то в самый раз бы сейчас. Он смирился, приготовился терпеть, но часу в одиннадцатом так тошно, так муторно сделалось, что не мог усидеть у себя на чердаке и, хоть обычно с наступлением ночи не вылетал за пределы двора, на этот раз полетел, держась хорошо освещенных улиц, к центру.
Погодка была, как на заказ, новогодняя. Свежий снег скрыл всю копоть, весь хлам городской, ровно, чисто выбелил все улицы, все дворы, все крыши. Город сменил свой буднично–серый наряд и, как положено в такую ночь, сделался театрально–красивым. Голубовато искрились, кристаллически мерцали в ночи сугробу на Тверском, озарялись неоном витрины и вывески, а расцвеченная гирляндами улица Горького вся сияла и переливалась огнями, как новогодняя елка. Даже бронзовый Пушкин, с пушистыми эполетами на плечах, не теряя задумчивости, словно примеривал карнавальный костюм.
В общем, праздник чувствовался во всем, праздник приближался. Понемногу даже настроение поднялось, тоска куда–то развеялась. Ему всегда нравилось гулять по вечерней Москве, и, забывшись, он почувствовал себя на такой прогулке. Все же очень любил он Москву, давно уже ставшую близкой, родной, где прожито как–никак полжизни. Сколько надежд было связано с ней, каких только планов не строил!.. И если не сбылось, кого же теперь винить? Москва в том, конечно, не виновата. Она не была ни слишком милостива, ни жестока к нему, не лукавила и не обольщала. Она приняла его, как принимала всех, ничем, что могла ему дать, не обделила. Просто он, наверное, не сумел воспользоваться ее дарами…
По верхам, избегая контактных линий и проводов, отдыхая на заснеженных крышах, перелет за перелетом, он добрался до самого центра. Улицы вокруг ГУМа, без обычной кишащей днем толпы, были фантастически белы, темны и пустынны. С крыши ГУМа, сидя на самом коньке ее, он долго любовался Красной площадью и ночным силуэтом Кремля: снежным кружевом на рдеющих в фиолетовом сумраке стенах и башнях, темно–лимонным отсветом золотых куполов, нечетким, приглушенным тьмой, но все равно прекрасным многоглавием Василия Блаженного и освещенным в ночи циферблатом главных часов страны, стрелки которых отсчитывали последние мгновения старого года.
Площадь опустела в этот поздний час, но город, насколько видел глаз вокруг, сверкал, искрился и переливался морем огней. Город не гасил своих огней в эту ночь — люди не спали в ожидании полночного часа, этого таинственного сдвига времен, который отделяет будущее от прожитого. От него ждали счастья и благих перемен, в этот час как будто совсем не далеких. Что с того, что обманывались, и не раз — так уж устроен человек, надеется, пока он живой… Пока живой и пока человек. А на что надеяться ему, Вранцову, не живому, в сущности, и не человеку среди людей? Что может дать ему новый год, ему, ничтожным серым комочком притулившемуся здесь, на этой заснеженной, словно арктическая пустыня, крыше? Какие надежды могут быть у него, какие упованья?..
И когда, дрогнув в последний раз, большая стрелка часов на Спасской башне встала на XII и особенно звучно в ночной тишине торжественно забухали удары курантов, похоронным звоном прозвучали они над его головой…
Для него не наступил новый год, его жизнь закончилась еще в старом. Превращение оборвало ее, как сама смерть, — его часы встали. Он исключен из списка живых — и мать потеряла сына, Вика осталась вдовой, а Борька теперь сирота, безотцовщина. Повсюду, где он что–то значил и был, его место теперь пустует. И наука навсегда потеряла его, если это считать, конечно, потерей. Науке он может послужить теперь разве что в виде экспоната в каком–нибудь краеведческом музее, запыленного чучела со стеклянными глазами, под которым на табличке будет значиться: ВОРОНА СЕРАЯ (соrvus согоnе согniх).
Жизнь людей продолжается без него — он в ней больше не участвует. Отныне он в делах людских незаинтересованное лицо — у него роль зрителя на галерке. Сама история человеческая больше не имеет отношения к нему — все, что происходит, что в будущем произойдет, его уже не касается. Для него осталась лишь естественная история: из ведомства Плутарха и Карамзина он попал в ведомство Кювье и Плиния Старшего, из царей природы «гомо сапиенс» низложен до вульгарного воронья.
Город сиял огнями, огромный, необозримый, люди веселились повсюду, встречая Новый год, и только ему было горько, как на похоронах, одному на своих собственных. Никакого просвета не видел он впереди, нечего больше ждать, не на что надеяться. Будущего нет у него — одно только прошлое. Тяжко было на душе, но он не улетал на свой чердак, понимая, что там еще хуже будет. Лишь перебрался, продрогнув, на кровлю университета, приткнулся на крыше «альма матер» за какой–то сохранившей остатки тепла трубой.
Пуста и бела Манежная площадь, и темен за ней Александровский сад. Ни единого огонька не теплилось и здесь, в пустых, заполненных мраком окнах аудиторий, и только силуэт сидящего в заснеженном дворике Ломоносова оживлял этот полночный пейзаж. Будто вдвоем сторожили они здание университета, два покойника, два призрака — знаменитый его основатель и он, Вранцов, безвестный, недавно ставший пернатым кандидат наук. «И будет собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать.» Увы, дальше будет ли!..
Тело согрелось возле трубы, но холод по–прежнему пронизывал душу, и безотрадными мыслями была полна голова. Долго сидел он, закоченев в своей лютой тоске, пока новая, странная мысль не отвлекла и не оживила его. А ведь есть в его нынешнем паскудном положении и нечто уникальное, единственное в своем роде, что, вероятно, не выпадало еще на свете никому. Кто еще мог вот так после смерти взглянуть на свою жизнь, как на чужую, обозреть ее со стороны, sine ira et studio — без гнева уже и пристрастья? Кто мог ответить на жгучий вопрос: так кем же ты все–таки на этой земле был? Что же ты все–таки собой представлял?.. А поскольку он был какой–никакой, а ученый, не задуматься над этой ситуацией, не исследовать ее он не мог.
Выражаясь научно, ему представлялась уникальная возможность изучить конкретного индивида во всех аспектах его жизнедеятельности, имея максимум информации о нем. И этим индивидом был он сам. Превращение отделило его сознание, его ум от прежней телесной оболочки, напрочь отрезало его самого от той жизни, которую прежде вел. Его прежнего как социальной единицы больше не существовало, его биография полностью завершена. Его можно изучать теперь как угодно, классифицировать по любому признаку, запрашивать о нем любые данные, задавать любые вопросы. Он не станет уклоняться, что–либо утаивать, вольно или невольно лукавить и в анкетах врать. Он уже по ту сторону, его роль в этой жизни сыграна до конца.