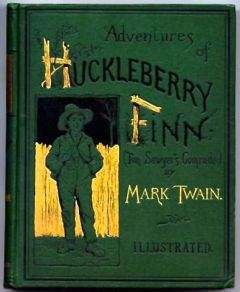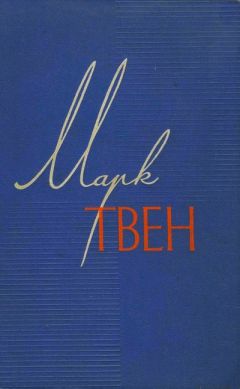Да, впрочем, Ложкин вовсе и не был похож на привидение. Лицо его отнюдь не напоминало чертежа из учебника геометрии, в рассеянности он не вынул вместо часов пригоршню червей из кармана.
Он тихо стоял перед Вязловым и его коллегами — стоял, ничего не говоря, только неловко поеживаясь, двигая плечами, как будто ему узок был пиджак. Все молчали. Кто-то громко зевнул от волнения.
— Степан Степанович, — сказал наконец очень свободно Вязлов и встал, опираясь на палку. Он подошел к Ложкину, обнял его. — Вы ли это? Да ведь мы же вас, страшно сказать, похоронить успели. Панихиду по вам собрались заказывать.
Ложкин громко поцеловал его куда-то мимо, в бороду.
17
С какою, казалось, приязнью встретили они его, как внимательно прислушивались к каждому его слову.
Жаравов — вечный противник его, неутомимый оппонент на каждом ученом собрании — как рассыпался теперь перед ним, с какой угодливостью справлялся о делах, о здоровье.
Как радостно хохотал, заглядывая ему в глаза, рыхлый, похожий на бабу, старик архивист.
И даже гном, с которым Ложкин был почти незнаком, подсел к нему, дружески хлопая по коленке.
Ложкин мало говорил. Слегка жмурясь, он беспокойно трогал пальцами пенсне.
Он знал этой приязни настоящую цену.
18
Сгорбленный, с серым лицом, вернулся он к своим рукописям. На чем он остановился? Ах да, он сравнивал рассказ Синодальной Палеи с Уваровским списком:
«И рече Соломонъ мудрцемъ своимъ створите кражму съ зелиемъ и помажете тело eia на отпаденiе власомъ…»
Ничего не произошло. Произошло одиночество. Усталость. Забудут анекдоты о нем, забудут и его самого — вот такого, каким он был сейчас, седоусого, с утомленными старческими глазами.
— Молодость? Вторая молодость? Нет, старость, милый мой. Старость ложится тебе на плечи. Где взять тебе душевную бодрость, чтобы с достоинством перенести ее?
Помнится, студентом, увлекаясь Сенекой, он доказывал, что жизнь, как драгоценная вещь, должна занимать немного места, но стоить дорого. Измеряться не временем, но делами. Какие же дела могли бы измерить его жизнь? Что занес бы он в свои двадцать пунктов, на которых, подводя итоги, помешался покойный профессор Ершов? И сколько лет осталось ему до двадцатипятилетнего юбилея? Как легко было когда-то, словами того же Сенеки, доказывать преимущества человека, свершившего все, предназначенное ему в жизни, но умершего рано, — перед тем, в удел которому досталось только долголетие. Не он ли сам, не профессор ли Ложкин был убежден когда-то, что первый живет и после своей смерти, а второй умирает задолго до ее прихода.
Как дорого дал бы он теперь за то, чтобы с мужеством смотреть на каждый свой день как на последний. Его жизнь. Она похожа на длинную и глупую историю Танузия, прозванную за ничтожество charta cacata![12]
И решительно все равно — сколько времени он будет сидеть еще над минеями и палеями.
«И помажете тело eia на отпаденiе власомъ. Хитреци же и книжници молвяхоу, iako совокупляется съ нею. Заченши же отъ него…»
А бунт его! Ведь это ж была просто тоска — тоска по самому себе, обида на то, что не удалась, что зачитана жизнь.
Но ничего не начинается снова, время не возвращается обратно. Неуклонное, оно гонит его в гавань тихую и сыроватую — от которой никто не смеет отказаться.
Ну что ж, есть известная доля доблести и в том, чтобы уйти, когда гонят. Нужно только делать вид, что уходишь добровольно.
Вот он не хотел уйти добровольно, он возражал, позабыв о том, что время не слушает возражений. И все-таки он уходит. Он отступает к своим книгам, да простится ему непокорство, да простится ему смерть жены!
«Заченши же отъ него и иде въ землю свою и роди снъ и сеи бысть Навуходоносоръ».
Он поднял глаза. Приветливый, горбатый на одно плечо старик — хранитель рукописного отделения, неторопливо, плавно приближался к нему, слегка склонив голову набок. Ясное, с голубыми глазами лицо его вежливо улыбалось.
Он радостно поднял руки, узнав Ложкина, — казалось, он приветствовал его от имени всех фолиантов, толпившихся за его спиной. Приблизясь к нему, он приложил руку к сердцу и сказал голосом, детским от учтивости:
— Soyez le bienvenu, monsieur!
19
Черные люди счищали острыми лопаточками грязь с асфальта. Потолок был как в оранжерее. Тележки, запачканные черным маслом, толпились у багажных вагонов, у тупика, из которого не было выхода паровозам. Вокзал был каменный, железный, похожий на самого себя.
На себя самого не был похож Драгоманов.
Равнодушно сунув Верочке руку, ничего не сказав Некрылову, он оставил их на перроне и вернулся в буфет. С буфетчиком он долго торговался. Выбрав большое яблоко, он грубо съел его.
— Вас, кажется, нужно поздравить — медовый месяц, или как там это называется, — сказал он, обчищая языком зубы. — Так вот, я тебя, Витя, поздравляю, а вас, Вера Александровна, — нет. Вас не поздравляю.
От вежливости его и следа не осталось, он уже пальцем чистил зубы. Никого не нужно было поздравлять, даже и показывать не нужно было, что он знает историю этой поездки.
Он был зол, эти женщины вокруг Виктора его раздражали. Юбки, хвастовство.
Некрылов насторожился, засвистал. Что-то переспросил коротко. Потом рассмеялся.
— Он завидует, — объяснил он Верочке, — но мы уже условились с ним. Через две недели он приезжает ко мне в Москву, и я выдаю его замуж, за очень хорошую женщину. Она не очень проказливая, но она… она будет проказливая.
— Через две недели, — размеренно сказал Драгоманов, — я уеду куда-нибудь к чертовой матери. В Бухару, может быть. Или в Персию. Я решил, Витя, перевести весь Узбекистан на латинский алфавит. Может быть, мне удастся устроить им приличную литературу.
— А зачем тебе уезжать? Для биографии? Не уезжай. У тебя университет, наука. Тебя уважают. С кем же я буду браниться, если ты уедешь?
Драгоманов ничего не сказал. Он смотрел на Веру Александровну. У нее было счастливое лицо. Это его раздражало.
— С женой, — сказал он наконец. — Ты будешь браниться с женой. С учениками. Они предъявят тебе счет — за плохие киносценарии, за случайные фельетоны. И ты будешь уничтожать их. У тебя будет дело.
Некрылов недовольно поднял брови.
— Я могу существовать один, — сказал он сердито, — без учеников. Это ты возишься с учениками.
— Боже мой, они уже опять начинают спорить, — с ужасом сказала Вера Александровна. — Сейчас поезд уйдет, носильщик куда-то пропал с вещами. Борис Павлович, ведь вы же умница. Согласитесь с ним, честное слово, мы опоздаем.
Некрылов сделал ей ласковую гримасу.
— Ученики… Ты все рассказываешь им. — Он схватил Драгоманова за рукав. — Ты рассказал им полное собрание своих сочинений. Ты возишься с ними днем и ночью.
— Из уважения к Вере Александровне не смею спорить, — иронически сказал Драгоманов. — Разреши только сказать, что ты за себя слишком спокоен, Витя. Они напишут о тебе много книг, твои ученики. Это будут романы. Они не умеют писать романы, но для того, чтобы вывести тебя, они научатся этому делу. Они проедут на велосипедах по тем местам, по которым ты прошел с барабанный боем.
— Ах, боже мой, куда же все-таки девался этот носильщик? Виктор, взгляните, это не он стоит вот там, у вагона?
Не дождавшись ответа, Вера Александровна отчаянно махнула рукой и побежала к носильщику.
Некрылов не тронулся с места, даже не поглядел ей вслед.
— Почему ты хочешь поссориться со мной за… (он посмотрел на вокзальные часы) за десять минут до моего отъезда? Тебе не удастся поссориться со мной. Учеников не существует в природе. Ты их выдумал, Боря, и на свою голову. Со мной они ничего не сделают. Но тебя они живым положат в сейф. И ты этого, быть может, не заметишь.
А на это Драгоманов ответил уже вовсе странными словами.
— А в сейфе хорошо лежать, — сказал он раздумчиво. — Лежишь себе под замком, и не нужно ежеминутно читать газету, как во сне, или еженедельно лекции в университете. И не нужно удирать в Персию от жены, от друзей, от китайцев. От времени. И не нужно торговать наукой.
Он не успел договорить. Два звонка пробили один за другим. Пора было садиться в поезд. Вера Александровна, обеспокоенная, сердитая, кричала что-то с площадки, делала Некрылову какие-то знаки.
Они обнялись. Поезд тронулся. Некрылов легко вскочил на площадку, рядом с Верочкой.
И, выглянув из-за тупой стены вагона, он в последний раз увидел Драгоманова. Он глазами нашел его на отъезжающем от поезда темноватом перроне и, еще раз прощаясь с ним, приветственно поднял руку. Но Драгоманов не ответил ему. Он стоял, заложив руки в рукава своей драной шинели, поводя вокруг себя туманными, ничего не выражающими глазами. Он был похож на босяка. На перроне он стоял как человек, которому не удалось уехать.