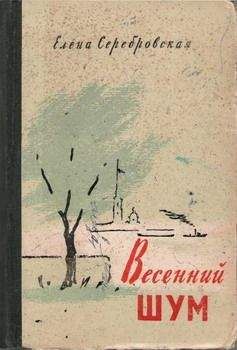— И не интересовался отец-то? — спросила молодая женщина с крайней койки.
— А зачем ему?
— Человек все-таки…
— Нет, дочка, не интересовался он нами. С тех пор я его больше не видела. И верите — никто мне после него мил не был, а сватались, три раза сватались ко мне, несмотря и на сына. С тех пор и живу одна с сыном. Теперь он женился, двоих деток имеет, мне и хорошо — не одна. А тогда, поначалу-то, бабы-соседки долго мне косточки перемывали. Дело прошлое…
— Значит, была любовь у вас, — сказала старшая женщина. — И слава богу, и ничего не значит, что ребенок незаконнорожденный. Конечно, одной труднее, вдвое труднее, а то и втрое. Да зато хоть бабой стала настоящей. А то есть и такие женщины — живут тихо, замужем, детей рожают, а любви не знали. Живет при муже, а что толку? Если не люб, так и живешь, словно обворованная. Поют песни про любовь, а ты и не веришь.
И набравшись смелости, женщина сказала, снизив голос:
— Я, бабоньки, второй раз замужем, меня первый-то раз выдали дуром, не спросясь, а я глупа была. Ну, я не такая, чтобы терпеть. Ушла от него через полгода. И вот — вышла по любви, и живу и радуюсь. Правда, мой мужик необыкновенный, до того заботливый и веселый. Все с прибаутками. Краснодеревец он, столяр. Ой, не могу, любит сказануть! А собой — что́ собой, он меня росточком даже чуть пониже, ничего особенного. Видишь, я ему четвертого принесла. И дети-то у нас тоже смешливые. Дома худого не слышат, мы всё меж собой в мире живем. А как матка с отцом, так и дети.
— Вот и я потому не могу выйти замуж за этого парня, который сюда пробирался, — сказала Маша. — Не лежит к нему сердце, а он хороший! Очень хороший парень. А дитя прижила от плохого, — что поделаешь! И, наверно, я никогда больше замуж не выйду, полюбить не смогу.
— Никто не знает, — ответила задумчиво нянечка. — Может так, а может и по-другому будет. Ты молодая, собой пригожая, народу круг тебя всегда много. Теперь ты им цену знаешь, словам ихним, теперь если найдешь, то уж не торопись, хорошенько все узнай и проверь.
— Мамочки, получайте детей!
За открытой дверью палаты остановилась коляска с голубыми батончиками. Сестрица быстро вошла в палату, держа справа и слева по спеленатому ребенку, и навстречу ей протянулись женские руки.
* * *
В день выписки за Машей пришла мать. Она волновалась, суетилась, показывала принесенные пеленки и распашонки, одеяльце для маленькой. Мать всё время поглядывала исподволь на Машу, отыскивала в лице ее новое. Во взгляде матери Маша прочитала такое, чего никогда прежде не видела. Казалось, мать хочет сказать ей: «Ну вот, теперь и ты узнала то, что мы, взрослые женщины, знаем. Теперь и ты почувствовала, что было со мной, когда ты появлялась на свет». И Маша сама не заметила, что в обращении с матерью стала мягче, добрее. Мать суетилась, подготовила все, что нужно, она помогала во всем. И когда Маша на высоком столике для пеленания снимала с девочки казенную распашонку и надевала свою, домашнюю, — на глаза матери навернулись слезы.
Дома Машу ожидал сюрприз. В ее комнате стояла детская кроватка, покрытая красным сатиновым одеяльцем. Это принесли студенты, товарищи по группе. На письменном столе в тоненькой вазе стояло несколько белых хризантем. В комнате было чисто-чисто, хорошо проветрено, уютно.
Дома не было никого, кроме младшего братишки. Увидев ребенка, он очень взволновался. Долго ходил вокруг, ожидая, что девочку будут пеленать и тогда он увидит ее всю-всю, неправдоподобно-маленькую, но настоящую. Охотно приносил и уносил все, что требовалось. Он ушел из Машиной комнаты только тогда, когда мать сказала: «Машенька устала с дороги, ей надо поспать, пока девочка тоже спит».
Через несколько дней пришли ребята из университета. Они сообщили, что профком дает Маше путевку на два месяца в дом отдыха «Мать и дитя». Дом отдыха близко, на Островах. Путевка бесплатная. Кроме того, как только Маша зарегистрирует дочку, ей выдадут единовременное пособие на приданое для младенца.
У Маши на сберегательной книжке было пятьсот пятьдесят рублей. Пособие можно прибавить к этим деньгам, будет шестьсот пятьдесят. А приданое приготовлено домашними средствами, можно прикупить еще метров пять бязи, и достаточно. Маша просто капиталистка, до того у нее много денег!
Девочка будет Зоей — дома все согласились. В загсе Маша зарегистрировала дочку на свою фамилию. «Маркизов Семен Григорьевич» — значилось в графе «отец», но девочка взяла только отчество. Прежде Маша часто размышляла над тем, почему детям всегда дают фамилию отца. Считают отца главнее… Почему? Это просто для того, чтобы было какое-то единое правило, какой-то порядок. Может, для того, чтобы малосознательные отцы помнили лучше о своем долге? Мать дитя свое не бросит, отец бросит скорей — вот и закрепляют фамилию на всякий случай.
Маша не хотела признавать того, что в семьях отец является, как правило, главным добытчиком. Ни ее мать, ни она сама не были иждивенками, зависимыми и ограничившими себя заботами о доме и семье. «Я могу делать ту же работу, что и мои товарищи-мужчины, — рассуждала Маша, — я могу и хочу, потому что мне это интересно не меньше, чем им. Лишить себя любимой работы и переключиться на кухню! Но я не хочу становиться подсобным, вспомогательным существом».
Лиза была подсобным существом, и это ее вполне устраивало. Значит, женщин держат на таких ролях не силой, сами женщины часто предпочитают эту урезанную, обедненную жизнь — жизни с самостоятельным трудом, трудом любимым и вдохновляющим. Жаль их!
Итак, новенькая девочка получила свой первый в жизни документ — метрическое свидетельство. Маша спрятала документ подальше, оформив необходимые справки для пособия. Получила путевку и поехала в дом отдыха «Мать и дитя».
В доме отдыха Зоеньку у нее забрали в детскую. Там за малышами смотрели специальные няни, чтобы матери могли хорошо отдохнуть и набраться сил. Не без трепета отдала она девочку в руки няни, — а как еще будут ухаживать там за ней, не дадут ли плакать? Дома она плакала редко. Но, встретившись со своим драгоценным младенцем через три часа, Маша увидела Зою чистенькой, спокойной и довольной.
Мамы отдыхали в других палатах. Они гуляли по парку, ели, спали, занимались специальной физкультурой, слушали лекции и концерты. Каждые три часа они надевали белые халаты, мыли руки, повязывали голову белыми косынками и шли в комнату, которая была столовой для детей. Здесь они кормили своих маленьких, любовались ими, а потом снова шли отдыхать и развлекаться.
В палате Маши была молодая белокурая женщина, работавшая на стройке. У нее был сын, крупный, с васильковыми глазами. Женщина рассказывала соседкам по палате, что муж бросил ее несколько месяцев тому назад, — не хотел ребенка. Теперь она подала в суд на алименты. Суд должен был состояться на днях.
— Что же с сыночком будет, если задержусь на суде? — спросила женщина у соседок. — Ему кушать время придет, а меня нет…
— Хотите, я покормлю? — предложила Маша. — У меня молока много, хватит на двоих вполне.
— Вот спасибо! Я постараюсь успеть, но если он плакать будет, вы покормите…
Эта женщина нравилась Маше. Судьба ее была нелегкой, хотя и очень простой. Выросла она в бедняцкой семье, подростком поехала в город поступать в прислуги. Хозяйка досталась ей скупая, прятала от нее еду, хлеб, довела до истощения. Уходила она от хозяйки с ненавистью и злобой. Пожила у другой, познакомилась с девушками, работавшими на стройке, и ушла из прислуг. Здесь она освоила грамоту, приучилась читать газеты, узнала о своих правах. Жила в общежитии, работала. А срок пришел — полюбила и замуж вышла. За такого же, как сама, строителя, каменщика, своего сверстника.
Жили хорошо. Но когда забеременела, муж приказал делать аборт, а денег в ту пору не случилось, пятидесяти рублей. Хотела продать мужнин пиджак, — он не позволил. А своего что продать не было. И вот пришло время — родился сын. Молодой отец не казал носа, где-то пропадал по вечерам, выпивал с друзьями. Повестку на суд она вручила ему сама на стройке, при людях, пристыдила и ушла, не больно-то упрашивала вернуться.