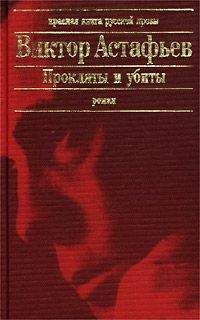Сооруженный по нехитрым чертежам рабочих кварталов, Ганс Гольбах уверенно носил крупную голову на широких плечах, был уже немного грузноват телом, косолап, волосат по груди и рукам, в то время как с головы его волос почти сошел — лишь на квадратном темечке и по заушинам серела короткая щетина, сбегающая на глубокую складку шеи каким-то диким, в день по сантиметру отрастающим волосом. В этом волосе, в кабаньей ли щетине, в желобе, сложившемся вдвое, кучно жили и отъедали голову Ганса немыслимо крупные вши, изгоняющие всякую вялую мелочь, может, и заедая ее, наверх, на череп, на ветродув. Ганс поступал с этой тварью так же, как русские люди поступали с вражескими оккупантами: дождавшись, когда «оккупантов» в складке кожи накапливалось так много, что они валились, будто через бруствер окопа, с засаленного воротника мундира, он их выбирал горстью, бросал на землю и, по-русски матерясь, размичкивал, втаптывал подковою военного башмака в землю, в чужую землю, постылую и совсем ему ненужную.
Глаза Ганса Гольбаха так глубоко впаяны в лоб, что их и увидеть-то невозможно, широкий, узкогубый рот, могучий подбородок, излишний объем которого ровно срезан тупой ножовкой, серым горбом подпирающая голову спина — все-все в нем скроено и размещено так, чтобы русские бабы пугали им детей, а советские художники рисовали на плакатах и листовках как самого страшного врага и дьявола.
Макс Куземпель, мало того, что родом с противоположного конца Германии, так и обликом, и характером совершенно противоположен Гольбаху. Жидкий телом, хрупкий костью, с тонким, будто картонным, носом, сын кустарного мыловара, он еще в школе носил чистенькие белые гетры, начищенные ваксой сандалеты, состоял в кружке по изучению и охране местной фауны. Держась за напряженно потеющую, ноготком его ладошку поцарапывающую ручку круглолицей, все время беспричинно хохочущей школьницы Эльзы, Макс собирал вместе с нею цветочки, нюхал пыльцу, коллективно занимался онанизмом в школьном туалете, слыша девочек за тонкой перегородкой. Ганс Гольбах к этой поре знал уже все портовые притоны, таскал выкидной моряцкий нож в кармане, перестал посещать церковь и звал священника по-солдатски — библейским гусаром. Макс миновал одну лишь стадию развития германского общества — он не бегал под красными знаменами, не крушил, не портил с ополоумевшими арбайтерами-тельмановцами частную собственность. Он еще в школе, по рекомендации родителей и старшего брата, был принят в отряд гитлерюгенда, оттуда прямиком в мокрые попал, стало быть, в рекруты, затем уж тоже затопал башмаками по мостовым, но уже каменным, твердым, и тоже восхищал местное, малоповоротливое умом и телом население, к его ногам тоже падали цветы. Обретая мужество, Макс однажды увел свою соратницу по школьному кружку Эльзу на ту самую поляну, подножкой свалил ее на золотисто цветущие одуванчики изучать фауну. Эльза сопротивлялась ровно столько времени, сколько требовали приличия, тогда же и сказала ему, что он есть настоящий мужчина и она не напрасно ждала от него мужественного поступка. Светловолосый, белобровый, имеющий вытянутое лицо и надвое разъединенный подбородок, почти бесцветные, ничего не выражающие глаза и всегда чуть притаенно усмехающийся рот, Макс Куземпель, не то что его первый номер, совершенно никого не мог собою испугать, наоборот, умел всех к себе расположить. До фронта он мало пил и более или менее сдержанно относился к женщинам, был, как и все баварцы, скуп, проницателен, самодоволен и, как всякое малосильное создание, притаенно жесток.
Он, Макс, ища надежную опору и защиту, еще в тридцать девятом году, в Польше, влез в душу Ганса Гольбаха, высмеял его стремление быть всех храбрее, непременно получить крест с ботвой — высшую среди наград — железный крест, обрамленный дубовыми листьями, сказав Гольбаху — если он хочет получить крест на грудь, но не в ноги, на могилу, должен хоть маленько думать своей тупой остзейской башкой, которая совсем не для того Богом дана, чтобы носить на ней пилотку и плодить в волосах насекомых. И еще сказал, что принц иль граф, словом, какой-то титулованный, сановный хер, скорее всего, баварский, потому как остзейцам только бы маршировать да стрелять, влепил Гитлеру прямо в глаза, что войну они проиграют, потому как в Германии населения восемьдесят пять миллионов, в России — сто восемьдесят пять. Да, правильно, совершенно верно агитаторы орут — и душка Геббельс поет-заливается: каждый воин фюрера способен победить двадцать польских и десять русских солдат, но придет одиннадцатый — и что делать?
Вот он, одиннадцатый, прет на «дроворуба», матерится, волком воет, сопли и слезы рукавом по лицу размазывает, но прет! И что делать? Расстреливать? Устал. Выдохся. Не хочет, не хочет и не может больше Ганс Гольбах никого убивать, тем более расстреливать.
— Макс! — шлепает брызгами рыжей грязи Гольбах, нажимая на спуск хорошо смазанной, четко и горячо работающей шарманки. — Макс! Нас атакуют штрафники — по широким галифе узнаю… Приготовься. Скоро начнется благословение, нас пошлифуют и приперчат…
Гольбах орет, чтобы что-то орать, чтобы себя слышать. Он прекрасно знает: у Макса всегда все готово не только к наступлению, но и к деланию аборта, то есть по-русски — к драпу, к ночевке, есть в ранце чего перекусить и даже выпить. Но у Гольбаха в последнее время сдали нервы, и он в бою все время блажит, будто осел, скалится, и во сне ворочается, чего-то бормочет, скоргочет зубами… Прежде спал, как бревно, хоть в грязи, хоть в снегу. Навоевался кореш, как называют товарища русские, — досыта навоевался… Раз, один только раз не послушался упрямый этот унтер, с огуречной шелухой на грязном воротнике мундира, хитромудрого, окопного брата своего и вот теперь на пределе орет, завывает во всю глотку.
Все награды любимого рейха есть в наличности у Гольбаха. Тело набито русским железом и свинцом.
У Макса такого добра поменьше, но тоже кое-что имеется, он пусть и хитрый мужик, да не заговоренный. Бренчи теперь на весь свет добытым в боях железом, гордись, торжествуй!..
— А-а, распрояттвою мать! — стараясь переорать Гольбаха, грохот, крики, шум, визг бобов, значит, пуль, свист и шлепанье брызг-осколков, ответно вопит Макс Куземпель, по-русски ругается — по-русски выразительней. — Я тебе говорил, сиди дома, не воевай…
«Дома сиди», — это значит, в плену. У русских. По книгам, по газетам, по кино выходит, что одни русские воевали в плену и бегали оттуда. Но вот редкий случай: Ганс Гольбах и Макс Куземпель смылись из русского плена. Еще осенью под Сталинградом сами сдались, а весной сами же бежать из плена сообразили. Перезимовали в тесных, зато теплых помещениях, на не очень сытной, но все же и не гибельной пайке, построили домики для советских чинов, которые для солидности называли их военными объектами. Позорно сделали марширен по столице России, которую так и не сумели взять в сорок первом году доблестные, нахрапистые войска Вермахта, подготовились как следует, язык подучили, документы на двух литовцев добыли — Крачкаускаса и Мачкаускаса, да и рванули вперед, на Запад, в формирующуюся где-то на российских просторах литовскую добровольческую дивизию имени литовского борца за свободу и независимость своей родины Целаскаускаса, что ли. В походе по русской, разоренной земле за главного был Макс. Гольбах открывал рот затем только, чтобы поесть картошки. Макс с его размытым лицом и пустым водянистым взглядом да мягким, слюнявым акцентом: «Маленько прататут, мали-энько укратут» — брил под литовца чисто, но и то в каком-то лесном селении солдат, при царе еще побывавший в германском плену, вглядевшись в Гольбаха, взревел: «Какие литовцы? Немцы это, бляди!..»
Много, очень много всяких приключений было у Макса Куземпеля и у Ганса Гольбаха, пока они достигли фронта. Боялись, что трудно будет переходить плотно войсками насыщенный передний край, но обнадеживал фронтовой опыт. На русской стройке вместе с другими пленными работал бывший ротный повар, так они вместе с кухней и фельдфебелем переехали и немецкий, и советский передний край. Кухня, полная каши, чая, гремит, отдельно бачок с офицерской едой звенит, всю-то ноченьку путешествовали вояки по боевым порядкам воюющих стран, несмотря на то, что передний край был с той и с другой стороны заминирован. Их обнаружил, как это ни странно предположить, не немец, не фриц, а русский иван. На утре он залез в густой бурьян оправиться, тут на него кухня и наехала, фельдфебель — дурак, стрельбу открыл, и его русские убили. Повара же русский иван, взметнувшись из бурьяна, стащил с повозки, свалил на землю и в плен взял. Его же, повара, русские воины заставили кашу есть — не отравлена ли. Затем ели кашу русские солдаты, пили чай с сахаром господа советские офицеры. Все получилось очень разумно: немецкий повар теперь для пленных кашу варит.
Никого не потревожив, не разбудив, Макс Куземпель и Гольбах миновали охранение, переползли через русский, затем и через немецкий передний край. Очутившись в глубине аккуратной, но крепко дрыхнувшей немецкой обороны, беглецы уяснили, что повар, жирующий в плену, не просто веселый человек, но и везучий малый, он им не анекдоты рассказывал, наставление давал. И вляпались-то они опять же на кухне — хотели поживиться съестным, чтоб следовать дальше на запад, но зевающий повар, растапливая полевую кухню, был самый бдительный на этот час войны среди всех воинов, бьющихся насмерть друг с дружкой. Приняв беглецов за партизан, бесстрашный повар выхватил с деревянного передка кухни карабин, стоящий на предохранителе, и, дрожа от страха или холода, скомандовал: «Хенде хох!» — и под ружьем повел пленных по лесу в штаб. Никакие посещения штабов не входили в расчет Гольбаха и Куземпеля, путь их лежал до горного Граца, где в высохшем лесном колодце, в двух запаянных ящиках из-под патронов лежало у них кое-что, прихваченное еще в Польше, — там они подчистую вырезали семью местного часовщика и, забрав золото и часы, сожгли вместе с трупами мастерскую, хранилища-кладовые, прилегающие постройки, не оставив за собою и малого следочка.