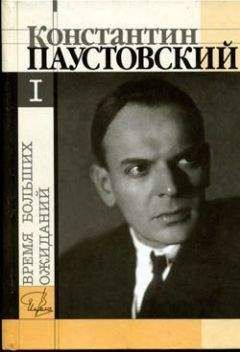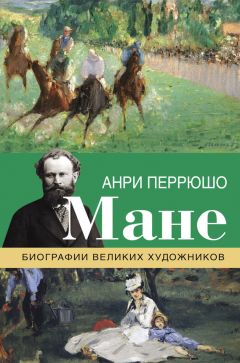Но что это? Из-под лома брызнули осколки желтовато-белого камня. Стырне поднял кусок. Сомнений быть не могло: в руках у него тускло поблескивал неровными гранями настоящий фосфорит. И какой! Геолог выпрямился, хотел что-то крикнуть товарищам, но внезапно откуда-то сверху послышался нарастающий грохот. «Неужели камнепад?» Ян Зигмундович беспомощно оглянулся. Без посторонней помощи выбраться из ямы нечего было и думать.
— Скорее, Ян Зигмундович, скорее! Камнепад! Держите руку!
— Сейчас, — торопливо засунув в карманы отбитые куски фосфорита, он поднял руки.
Виктор Степанович и Бабасьев сильным рывком вытащили его. Едва люди отпрянули за огромный валун, как, с грохотом заваливая шурфы, по склону сопки пронесся град обледенелых камней.
Тесно прижавшись друг к другу, люди смотрели на разрушительную работу взбесившегося камня. Потом все стихло. Только сухая пыль маревом висела в воздухе.
— Представление окончено, — мрачно пошутил кто-то.
— Кому шуточки, а кому струмент откапывать, — откликнулся другой.
— На сегодня, пожалуй, пошабашим? — отерев лицо платком, сказал Стырне и покачал в руках куски фосфорита. — Это из твоей копуши, Добряков. Поздравляю, товарищи!
Камни пошли по рукам. Лица разведчиков просияли.
— Ишь, с виду простой, а поту, кровушки сколько взял…
— С вас, товарищ начальник, пол-литра!
— Ладно. Столкуемся.
Ночь уже опустилась на сопки, когда все, кто был в таборе, наголодавшиеся, усталые за этот трудный день, наскоро умывшись, собрались в столовой.
Там было чисто, на столиках стояли ранние таежные цветы. Генэ с Викой разносили пищу в фаянсовых тарелках с синей каемкой (это вместо недавних-то котелков!), и суп от этого казался особенно вкусным. Доносился стук движка, над столами висел приглушенный гул мужских голосов, стук посуды, шутки, смех. Остро пахло пережаренной черемшой и свежеошкуренной лиственницей. На красноватых, законопаченных паклей, бревенчатых венцах кое-где золотыми блестками вспыхивала камедь.
Луна любопытно заглядывала в широкие, до блеска вымытые окна.
— Ты иди, иди, Вика, я сама тарелки мою, — сказала Генэ, когда после ужина они перетаскали к ключу грязную посуду, — иди, гуляй, девка.
Вика не пошла. Опустилась на корточки у кромки воды, и вдвоем они стали мыть песком ножи и тарелки. Ярко светила лампа, висевшая на столбе, вокруг нее тучей крутились мотыльки. Луна ушла уже за темные сопки, горка вымытой посуды росла и росла.
Вика расспрашивала таежницу о поездке, о доме, об оставленных внуках, одновременно слушая ее и думая о своем.
— А ты скоро? — старуха простодушно ткнула пальцем в заметный даже под зеленой просторной блузкой тугой Викин живот и улыбнулась.
От неожиданности молодая женщина вспыхнула, отвела глаза в сторону.
— Еще не скоро, Генэ, не знаю я…
— Ничего, ничего, — раскуривая трубку, Генэ втягивала впалые дряблые щеки, — я троих сынов родила одна в тайге, как-никак — живут. Мой старик тоже ростом не больше кабаржонка, а беда какой злой был ребятишек делать — спать совсем ничего не давал. Теперь зимой ругал за одного старого рыбака, а сегодня Ахметке ревнуй. Маленько старик совсем рехнул. Какая моя теперь баба…
Посмеявшись, Вика помогла закончить уборку в столовой, наказала, что приготовить на завтрак, и, пожелав старой поварихе покойной ночи, пошла к себе.
Движок, трижды мигнув, зачихал, будто простуженный, и табор, как продолжали по привычке называть новый горняцкий поселок на Большом Пантаче, погрузился в темноту. Только одно окно продолжало светиться в конце поселка. Там за бутылкой вина собрались старые друзья.
Вика сидела, забившись в уголок тахты, по давней привычке поджав под себя ноги, смотрела на всех и думала. Ей было хорошо сейчас. Кругом такие знакомые, дорогие лица. Кажется, и немного времени прошло с тех пор, как Стырне перебрался в Москву, а сколько сделано, сколько прожито. Построили поселок. Скоро и мне…
Уже ведь шевелится, толкается… Неужели придется уехать отсюда в Каргинск? Как же оставить Зовэна? И почему непременно нужно прервать работу, которую так любишь, так знаешь. Женщина больше во власти природы, больше подчинена необходимости — никуда не спрячешься. Ей-богу, даже на время не хочется уезжать из поселка. Каждого жалко оставлять: и Генэ, и Байгильдина, и других. Каждый дом дорог строился на глазах, сколько бревен перетаскали… и всегда в поселке пахнет хвоей, ветром из леса. И из конца в конец улицы видны сопки.
А Вадим даже не видел всего этого. Еще не видел. Открыл Пантач и его не видел. Тоже сработала необходимость? Нет. Что-то другое, ловушка природы, случайность…
Застольная беседа меж тем текла сама собой.
— Стыдно, признаться, товарищи, — говорил Стырне, и голубые чуть захмелевшие глаза его блестели на загорелом белобровом лице, — прямо сейчас кажется неправдоподобным: я долго не верил в Большой Пантач. Даже портфель с образцами дважды терял… — Он покрутил головой в густом серебристом ежике и засмеялся, — вот, что значит попасть в плен к предрассудкам…
— К черту плен! Не надо! Будем драться насмерть, стоять насмерть, ни шагу назад! — горячился Бабасьев.
Друзья помолчали. Вика оглядывала комнату, свое временное жилище, и опять думала, что и комнату жалко покидать. Сами они с Зовэном собирали из досок стеллаж по чертежам из «Недели». Он был без клепки и единого гвоздика, и разнимался, как детская пирамида, — один из образчиков современного интерьера. Она сама полировала его, — целый месяц не могла потом отмыть пальцы. Немного пока книг на нем, наполовину пусты еще полки…
— Раз, два… пять, шесть, семь! — Виктор Степанович, тыча пальцем, сосчитал желтоватые отростки на изюбриных рогах, висевших над покрытой ковриком лежанкой. — Ничего себе была животина! Настоящий большой пантач. Прямо символ. Кто это его? — Сняв с гвоздя отливающую синевой тулку с третьим нарезным стволом, устроенным снизу, инженер вопросительно взглянул на Бабасьева: — Твоя работа, Зовэн Давидович?
Тот кивнул, опасливо покосившись на жену: изюбр был убит им без лицензии, и за это ему изрядно от нее попало.
— Ладно, ладно, браконьер, на первый случай считай, что прощен. Только на первый случай, — сказала Вика.
Бабасьев сделал зверское лицо и, вращая глазами, спросил утробным голосом:
— Знаешь, что делают на Кавказе с непокорными женами?
— Что?
Зовэн полоснул ребром ладони по горлу и издал легкий хрип. Все рассмеялись.
— Это, конечно, кавказская шутка, — отсмеявшись, сказал Зовэн, бережно обняв жену за плечи, в глазах его еще прыгали лукавые огоньки, — а если серьезно — готов всю жизнь сидеть у нее под башмаком.
— Ну да, удержишь тебя под башмаком, — возразила Вика, и нежное похудевшее лицо ее порозовело.
Стырне, чуть улыбаясь, долго смотрел на них, потом стал серьезен.
— За тех, кого мы выбираем! — он поднял свой стакан.
— И за то, чтобы вернулся Вадим. Чтоб мы их увидели вместе, — тоже серьезно сказала Вика и прямо, открыто посмотрела в глаза Стырне.
— Дай бог, — тихо сказал он и выпил свое вино без остатка.
Свет каганца, стоявшего на столе, заколебался, отбрасывая причудливые тени на бревенчатые стены, на лица людей.
По автомагистрали, протянувшейся через просторы Кубани, идет в южном направлении машина. Она не мчится, а именно идет, позволяя обгонять себя другим машинам, строго выполняя указания дорожных знаков. Она не бросается наперерез поездам и терпеливо дожидается, пока шлагбаум не поднимет к небу свой полосатый хобот. Словом, это не машина, а мечта автоинспектора. Она не блистает ни обтекаемыми формами, ни бархатом внутренней отделки — это маленький, кургузый, даже, пожалуй, невзрачный на вид автомобиль. Он фырчит и отчаянно дымит, больше других подпрыгивает на неровностях дороги, один бок у него поцарапан, на другом помято крыло. За рулем сидит худая большеглазая девчонка с облупившимся лицом, с побитыми до крови руками. В ней трудно узнать сейчас Дину Стырне. На ней узкие темные брюки, разношенные сандалеты с медными пряжками, ковбойка с закатанными до локтей рукавами и круглая соломенная шляпа с козырьком. Лицо, как и руки, в пятнах машинного масла, обветренные губы давно не знали помады, а широко поставленные синие глаза под козырьком — решительны и мрачны.
После того как в конце зимы Вадим приходил к ней и не застал дома, Дина опять замкнулась в себе. Она упорно занималась, по-прежнему была ласкова с отцом, но разговаривала как-то неохотно. А от матери заметно отдалилась. К сессии готовилась яростно, просиживала целые ночи, отвечала отлично, хотя иные дисциплины сдавала раньше срока. Когда по ее подсчетам до конца пребывания Вадима в санатории оставалось четыре дня, она сдала последний экзамен и стала готовить машину.