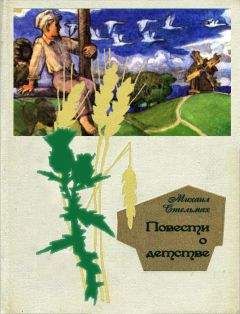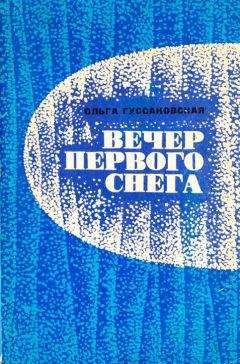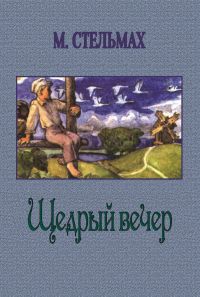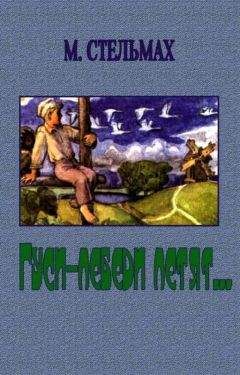— Михайлик, это ты?! — удивляются и почему-то так радуются ее карие глаза, что и мои начинают улыбаться.
— И ты уже пришла в школу? — не знаю, что сказать ей.
— Я первая пришла, — и поворачивается так, чтобы хорошо было видно ее сережки, которые висят себе и дремлют на темных мочках ушей девочки. — Все боялась, чтобы не опоздать.
— А может, ты хотела всем сережки показать?
— Бессовестный, — оттопыривает узелком розовые губы, но сразу же перестает сердиться и таинственно говорит: — Я тебе что-то принесла. Знаешь что?
— Откуда мне знать.
Коридором пробегает Цибуля. Он бессовестно останавливается возле нас, нахально заглядывает мне и Любе в глаза и многозначительно говорит: «Ги».
— Ты чего? — сразу возмущаюсь я.
— Потому что что-то знаю, — хитро смотрит на меня и Любу. — Вот расскажу всем ребятам.
— Что же ты, чаполоть болотная, расскажешь? — обижено прозвучал Любин голос, а испуг тенями затрепетал в ее глазах. — Что?
Цибуля радостно засмеялся, показал нам язык:
— Что захочу, то и расскажу. Еще рано кое-кому засматриваться друг на друга.
Обида, негодование и гнев сорвали меня с места. Я изо всех сил хватаю болтуна за барки и даже удивляюсь, как он, приземистый, затрясся в моих руках, а из его карманов начало сыпаться выигранное добро: желуди, стреляные гильзы, старые перья, огрызки карандашей и оловянные пломбы. Это добро, несомненно, и спасло нас от потасовки в первый день учебы.
— Пусти! — вдруг заскулил Цибуля. — Вон раздавишь перо.
— А врать будешь?
— Н-не буду! На черта вы мне сдались. Уже и пошутить себе нельзя.
Я отпускаю Цибулю. Он быстро собирает свое добро и снова бежит во двор. Будет ли он там рассказывать враки?
Люба пренебрежительно посмотрела ему вслед и доверчиво сказала мне:
— Ты, Михайлик, не грусти. Что нам от такого заводилы ждать? Вот подожди меня немножечко, я сейчас! — Она стремглав бросается в свой класс и скоро возвращается, что-то пряча за спиной. — Догадался, что у меня?
— Где там.
— Смотри! — и Люба протягивает мне несколько тетрадей в цветных обложках. — Это твои.
— Чего же они мои?
— А кто рвал липовый цвет?
— Я же тебе просто так помог. Да и сколько его нарвал.
— Вот как раз на эти тетради и нарвал. Я хочу, чтобы все было по-честному.
Сомневаясь, беру тетради:
— Тогда спасибо.
— Пиши на здоровье, — точь-в-точь, как дядька Себастьян, говорит Люба. Или, может, она услышала от него эти слова?
— Так заработала ты серебряный рубль?
— Таки заработала. Михайлик, а завтра после школы пойдем по грибы? Я нашла такое место — одни боровики, и тугие, как камешки. Моя мать уже насушила несколько связок. Пойдем?.. Или теперь тебе уже не с руки?
— Чего же, пойдем.
— Вот и хорошо, — чего нам бояться пустобреха…
В это время зазвонил колокол уже на урок. Мы бросились в свои классы, которые гудели, как ветряные мельницы.
И вот на пороге останавливается наша учительница. Она так несет улыбку, что, кажется, улыбается каждому из нас. А слова ее до сих пор, через сорок лет, отзываются моему предвечерью:
— Дети, вы все подросли на солнышке и дождях, а теперь будем расти за книжками, потому что много-много чего, очень интересного, надо нам узнать…
На следующее утро я рубил маме дрова, когда слышу — наши ворота скрип да скрип, скрип да скрип. Оглядываюсь, а на воротах стоит Люба в праздничной одежде, раскачивается себе и улыбается мне.
— Ты чего, девка, качаешься? — вгоняю топор в колоду и иду к воротам.
— Потому что на ваших воротах хорошо качаться, — они скрипят в несколько голосов, а наши имеют лишь два голоса.
— И дослушалась! — Сколько я слышал скрип наших ворот, а никогда и не подумалось, что они имеют несколько голосов. — Ты и сегодня первой в школу придешь?
— Я сегодня, Михайлик, в школу не иду, — говорит таинственно, а взгляд ее аж светится. — И по грибы мы сегодня не пойдем.
— Это же чего?
— Потому что вчера к тетке Василине приехал главный над певцами, и он нас на несколько день забирает в Винницу.
— И ты едешь? — отозвалось сожаление во мне.
— Еду, Михайлик. Я там настоящий театр и трамвай увижу. Вот я прибежала проститься с тобой. Уже телега на тракте ждет меня.
— Ты же скорее приезжай.
— Это уж как главный над певцами скажет. Так хочется увидеть город. Там ни в одном доме нет ночника — везде электрика светит. Прощай, Михайлик.
И она, покачиваясь как камышинка, пошла навстречу своей судьбе, потому что настало такое время.
День теперь короткий, как заячий хвост. И все равно мне так хорошо в нем, что и не говорите, а особенно тогда, когда выскользнешь из хаты — и на каток. Вот там уже роскошь и воля — до самой звезды! Как-то веселее становится даже от воспоминания, как под тобой гудит и посвистывает лед; ну, а как после, когда дыбуляешь домой, гудят ноги, — лучше не вспоминать.
Когда я с коньками собираюсь на реку, мать говорит, что из моих глаз сыплются искры.
— Э? — не верю я.
— Посмотри в зеркало.
И хотя знаю, что мать говорит с насмешкой, однако весело ковыляю к стене, в которую вмазан толстый осколок того зеркала, которое было до революции у господ, и в нем вижу лишь свои улыбающиеся глаза, нос и кончик языка, которому почему-то тесно за зубами.
— Так сыплются искры?
— Еще и как! — отвечаю шуткой на шутку и начинаю обеими руками отряхивать свитку, чтобы она часом не загорелась.
От этого на мамины губы тоже усаживается смех, а я говорю, чтобы она не грустила по мне, шапку на голову — и к щеколде, еще и пальцем вызваниваю на ней насмешку над щеколдочниками: ключ — щеколда, ключ — щеколда!
— Только же не иди, как рак за дрожжами, — предостерегает мать, чтобы я не задерживался. — Потому что ты и зори, и луны дождешься на катке.
— А мне и с луной хорошо! Она такие дорожки стелет на льду! — Вижу эти дорожки и тени верб на них, что вытуманиваются и вытуманиваются из прозрачного льда.
— Только помни, что тебе за эти дорожки отец скажет.
— Вынужден помнить! — беззаботно выскакиваю в овин, и колесом по току, и во двор — и сразу оказываюсь аж в самой середине дня!
А как тебе весело, когда знаешь, что стоишь точь-в-точь посреди дня! Тогда все кажется лучшим и сам будто более нужным становишься. А есть же такие, что до сих пор не ведают этого и имеют меньше радости от мира…
Голубой с изморозью цвет бьет мне в глаза, и они не знают, что им делать: или засмеяться, или сбросить несколько слезинок. С того или какого-то другого дива-радости я лихо взбил свою шапку, крутнулся юлой на месте, ударил каблуками гопака, еще и запел:
Вербовая дощечка, дощечка,
Там ходила Настечка, Настечка.
Песня сразу приблизила ко мне весну, и ставок с вербовой дощечкой, и Настечку над водой, и звезды в воде — все то, в чем я живу.
«Так-так-так», — бодро отозвалась на песню утка с перебитым крылом и топ-топ, ожидая от меня угощения или ласки. А еще она очень любит, чтобы с ней что-то говорили о жизни. И что ни скажешь ей, она будет поддакивать и притираться к тебе здоровым крылом.
Только, к сожалению, утка уже начала стареть, и не всякое угощение идет ей на здоровье. Вот как-то под осень заглотнула большого жука, а он застрял, не дойдя до вола. Утка больно трепанула крылом, как-то безнадежно вытянулась вверх и завалилась на спину. А под пером шеи было видно, как там упрямо барахтался жук. Потом, теряя равновесие, утка встала, печальным глазом взглянула на мир, пристыжено забилась в угол, и в этот день не слышали ее бодрого притакивания…
Я смотрю на птицу и спрашиваю у нее:
— Правда, сегодня хороший день? Так или не так?
«Так-так-так», — радостно соглашается утка и поднимает вверх потрескавшийся от старости клюв.
От этого разговора даже Обменной становится весело, она, мотнув головой, скалит зубы и говорит «Ги-ги-ги!»
«Ги-ги-ги», — отзывается в третьем дворе ее младшая подруга, которая как раз разжилась на жеребенка с совсем голубыми глазами и звездой во лбу.
А вот из-за дровяника, чисто полоумный, выскакивает блохотрус Рябко и с разгона бросает передние лапы на мои плечи. Я кулаком даю ему «бокса», он отвечает головой и лапами, и мы сразу оба оказываемся в сугробе: сторож — сверху, хозяин — снизу; от этого Рябко имеет больше радости, чем я: он, жируя, повизгивает, крутит хвостом, смеется, приплясывает, еще и лезет целоваться, а я лишь защищаюсь от него и снега и никак не могу вывернуться исподнизу: ухвачусь за снег — мягкий, ухвачусь за Рябка — выскальзывает.
— Ой, нет, таки некому бить этого шкодника, — слышу знакомый придирчивый голос, и он меня немедленно ставит на ноги.