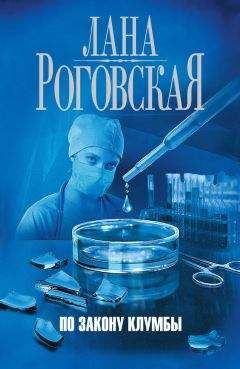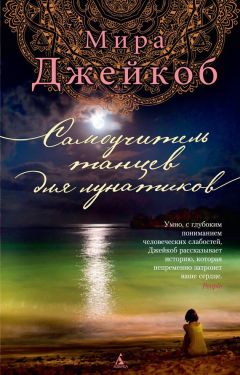— Так-то оно так… — Иван Степанович все еще стоял над своей густо разрисованной картой. — Но и напомнить о себе не мешает.
— Письма мы, конечно, можем написать всем партийным организациям областей, где есть ваши поставщики… напишем. Но не это главное, товарищи. Уверяю вас, не это. Главное находится не за тридевять земель. Оно ближе. Оно здесь, на вашем заводе. Вот вы перейдете на сборку секциями… Электросварка, следовательно, почти полностью вытеснит клепку. А вы позаботились о том, чтобы в один прекрасный день ваши клепальщики не оказались не только без работы, но и без профессии? А вы проверили — достаточной ли квалификации ваши сварщики и достаточно ли их самих? Хорошо ли они знают автоматическую сварку? Достаточной ли квалификации мастера?
Ковалев выжидательно посматривал то на Ивана Степановича, то на Жукова, то на инженеров. Все молчали, все думали — мысленно производили проверку заводских кадров.
— Когда я знакомился с планом реконструкции завода, — снова заговорил Ковалев, — меня знаете что поразило? Перемены, какие должны у нас произойти, внешне кажутся не очень значительными. Расширили один цех, передвинули другой, построили третий… Ничего как будто бы коренного. Но это ошибочное мнение. Перемены будут огромные, и не столько с внешней стороны, сколько в самых сокровенных глубинах заводской жизни. Могут случиться неслыханные неожиданности. Их же надо предвидеть, предугадать, чтобы вовремя направить коллектив на преодоление трудностей и препятствий, на устранение опасности всяческих заминок, застоя. Обком не сомневается в том, что вы умеете смотреть вперед, — вот вы увидели возможность осложнений со стороны поставщиков. И это правильно. Но пример с электросварщиками и клепальщиками — а таких примеров поискать, найдутся десятки, — говорит о том, что и в вашем собственном доме есть над чем задуматься.
Иван Степанович воспользовался паузой.
— Насчет кадров, Дмитрий Дмитриевич… Вот вы говорили о тех умельцах… — Он указал в сторону столика у окна. — А у нас разве таких умельцев нету? У нас в каждом цехе, на любом участке…
— Прости, перебью! — Ковалев поднял руку, как бы желая остановить Ивана Степановича. — Не договаривай. Знаю, что скажешь. И умельцев ваших знаю. Давай их беречь. — Он умолк на секунду и вдруг спросил: — Кто-нибудь из вас бывал, товарищи, в Павловском дворце под Ленинградом? А вы помните, Корней Павлович, там, в небольшом зальце, похожем на восьмерку, до войны висели два бронзовых фонаря? Казалось, они были сделаны не из металла, а из кружев. Они ничем не отличались друг от друга. Но один из них был сделан в Париже и подарен французским королем российскому императору, а второй, в пару ему, был изготовлен русскими крепостными мастерами. Причем русские мастера заявили: не будь заморского образца, мы бы соорудили покрасивей. И в самом деле, они «сооружали» удивительные металлические цветы, стебли которых были покрыты ворсинками, такими тонкими, что с ними можно было сравнить разве только те гвозди, которыми тульский Левша подковал английскую блоху. Но… прошу обратить внимание на это «но». Такие изделия требовали долгих, долгих месяцев работы. Я восхищаюсь искусством кудесников с нашего часового завода. — Ковалев тоже сделал жест в сторону столика, на котором были разбросаны латунные детальки. — Однако, чтобы на изготовление одного такого прибора уходило не девяносто шесть часов, как сегодня, а час-полтора, как того требует моторостроительная промышленность, — над этим работают сейчас три научно-исследовательских института и два завода. И сказать вам откровенно, и я вот третий день пачкаю руки керосином. Вспомнил старую свою специальность.
Ковалев весело улыбнулся. Улыбка скользнула по лицу, и тотчас оно вновь стало серьезным.
— Эти кудесники — что они делают? — продолжал он. — Они вручную, час за часом, сидят и шлифуют, шлифуют на самых тонких шлифовальных кругах. Прежде чем приступить к работе, они измеряют температуру в собственных пальцах. Пальцы не должны быть ни холодными, ни горячими, иначе металл в них или сожмется, или расширится. Столько всяческого колдовства! А нам надо, чтоб изготавливались приборы машинным способом. Самое трудное тут не изготовление, а определение точных размеров. Бьемся, ищем такой мерительный инструмент, на который не влияли бы изменения температур.
Жуков, пока говорил Ковалев, остро отточенным карандашом делал пометки в записной книжке. Когда Ковалев умолк, чтоб отпить глоток воды, он сказал:
— Вы совершенно правы. Сегодня для нас очень важно, что мы делаем. Но не менее важно, и как делаем. А завтра это будет самым главным требованием в промышленности. Когда-то, бывало в истории, люди тоже возводили гигантские сооружения. Пирамида Хеопса, например. Сколько десятилетий она строилась! Далеко ходить нечего. Исаакиевский собор в Петербурге строили сорок лет. Здание же Московского государственного университета когда заложено? Года три назад на Ленинских горах я видел только экскаваторы да самосвалы. А вот сегодня это сооружение, высотой более чем в два Исаакиевских собора, готово. Или, например, четвертая очередь метро в Москве…
Жуков приводил один пример за другим. У него этих примеров труда по-новому, по-коммунистически было великое множество.
Антон сидел и с интересом слушал. Он думал о том, что весь план реконструкции завода именно и пронизан стремлением перевести труд кораблестроителей в новое качество, которое было бы созвучно эпохе великих строек коммунизма. И правильно говорят Ковалев и Жуков — надо умело подготовить рабочих, мастеров, инженеров к переходу на новую, более высокую ступень организации и производительности труда.
— Да, повторяю, — слышал он голос Ковалева, — умельцев надо беречь, берегите их, товарищи! Но растите и новых умельцев — мастеров коммунистического труда, мастеров владения машинами и механизмами!
Ковалев поднялся, пошел к своему письменному столу, порылся в папках и принес небольшой фотографический снимок. На снимке была изображена роза. Казалось, ее только что срезали с куста: свежие тонкие лепестки, тончайшие острые шильца шипов, мохнатый от ворсинок стебель, зубчатые, в прожилках, листья будто еще хранили на себе сверкающую утреннюю росу.
— Красиво? — спросил Ковалев, когда фотография обошла по кругу все руки.
— Великолепно! — ответил Корней Павлович. — Метод точного литья. Стальная роза. В прошлом году на одном из уральских заводов я видел ее в натуре.
— Не уступит ни тем кружевным фонарям, — продолжал Ковалев, — ни бронзовым или чугунным цветам крепостных мастеров. Но не месяцы ушли на ее изготовление, а секунды, и не руки кудесников ее изготовили, а наша техника. Вот так мы с вами обязаны строить и корабли. Техника должна решать дело, техника, доведенная до степени высочайшего искусства. В такой мы вступили век!
3
Люди, увлеченные своей профессией, отдавшие ей много лет жизни, очень часто и на все окружающее смотрят с точки зрения этой профессии. Иной раз стоишь в коридорчике вагона перед окном, тут же полковник или генерал с тремя, с четырьмя планками орденских лент на кителе; по сторонам поезда бегут орловские или курские бугристые поля, овраги, жидкие лесочки, желтеют на косогорах подсолнечники, машут серебристыми метелками стебли кукурузы. Сосед рассматривает все это рассеянно, прищурив глаза, и думает будто бы о чем-то другом, далеком, чего за окнами вагона не видно. Вдруг взгляд его метнется через овраги, через подсолнечники… Посмотришь и ты туда же: высотка, перед ней равнина, пересеченная шоссейной дорогой, дорога идет из березовых туманных рощ к зеленым кущам старинного городка, над которым торчат белые колоколенки. Ничего особенного, пейзаж, какими богат любой уголок средней России. Почему же так оживился офицер, почему так энергично перебрасывает взгляд свой с высотки на дальние рощи, от рощ к окраинам города и вновь на высотку? Не потому ли, что высотка господствует над шоссейной дорогой, с высотки контролируется каждый шаг по этой дороге, и недавний комбат — ныне командир полка или дивизии — роет тут окопы, ходы сообщения, стрелковые ячейки, — он увидел местность, удобную для решения интереснейшей тактической задачи, он развертывает на ней свои подразделения для удара по противнику. Мы с вами думали, что это овраг, но это совсем не овраг, а почти готовые огневые позиции для минометной батареи; мы любовались рощей, но это не роща, а укрытие для живой силы и техники; и дорога не дорога — коммуникации, и колокольня нечто иное, как ориентир; и подсолнухи с кукурузой в любой момент из полевых растений превратятся в подручные материалы для маскировки.
О Викторе Журбине нельзя было сказать, что он не замечал суровой красоты вековых сосен, могучими колоннадами тянувшихся вдоль побережья бухты, не слышал веселого шума молодых березок и дубков в новом парке за Веряжкой, никогда не любовался лиственницами и ясенями на городских улицах, не останавливался перед кедрами возле Исторического музея. Но вот стоит он так, разглядывая таежных обитателей, лет двадцать назад завезенных на Ладу, их прямые стволы, длинные иглы, собранные на ветвях в пучки, отчего темные кроны кедров всегда кажутся взъерошенными, всклокоченными, и вместе с тем видит нечто иное, скрытое от глаз человека не его профессии. Стволы, шершавая их кора в прозрачных каплях смолы, переплетение ветвей — это же только внешность дерева! Виктор Журбин больше любовался его «душой». Кедр — могуч, красив, он царь тайги. А Виктор этому красавцу предпочтет скромненькую старушку грушу. За эффектной внешностью кедра мы не видим того, что его желтовато-коричневая мелкослойная древесина менее прочна, чем у лиственницы или даже обычной сосны, что кедр очень плохо полируется, в то время как груша, с ее бледно-розовой древесиной, по прочности превосходит дуб, полируется великолепно, до зеркального блеска, не коробится от влаги, плотна почти как бакаут — самое тяжелое и твердое из всех пород дерево на земном шаре.