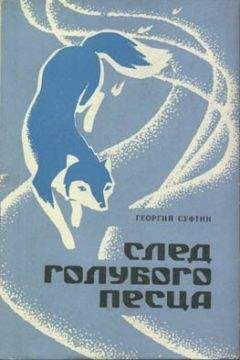Но внезапно настроение Лёвы сменилось. Он как будто загрустил. Голубков понял, в чем тут дело, но не показал виду. Спросил серьезно:
— Ты что — недоволен?
— Почему недоволен... Почему недоволен, — зачастил Лёва, как бывало с ним всегда в растерянности.
— Ну, ладно, не грусти, — усмехнулся Голубков, — не завтра ведь поедем. Ещё выпустим последний номер. У тебя бумаги-то хватит?
Бумаги оказалось совсем мало, только на половину тиража.
— Что же ты, приятель, плохо свое хозяйство знаешь... Чуть без бумаги не остались. Как теперь номер-то?..
Голубков поскреб в затылке, начал насвистывать, что значило — редактор недоволен.
— Михайло Степанович, я добуду бумаги... — не выдержал Лёва.
— Где же ты ее, интересно, добудешь?
— А вот добуду. Только вы мне разрешите съездить на Янзарей...
Голубков не ответил, но свистеть перестал. Поутру Лёва уехал. Первым делом он привернул на факторию. Куроптев встретил его сухо. Перебирая песцовые шкурки, он искоса бросал на Лёву колючие взгляды.
— Я приехал к вам, товарищ Куроптев, попросить немного бумаги, — прямо начал Семечкин.
— Бумаги? На что она вам? — удивился заготовитель пушнины.
— На помер не хватает, — не стал скрывать Лёва.
— Допечатались! — хмыкнул Куроптев. — Вот у меня есть в запасе, могу дать.
Куроптев достал из ларя стопку бумаги. Верхний лист стопки пожелтел, края ее помялись. Семечкин поморщился, поморгал глазами, но взял.
— Ладно, выберется, может, что-нибудь. Спасибо...
— Мы всегда готовы оказать помощь, — с елеем в голосе сказал Куроптев. Помолчал и уже другим тоном добавил: — А вот вы зажимаете...
— Что зажимаем?
— Письмо-то про Ясовея не напечатали... Ну что ж, мы дальше пойдем. Расписочка-то у меня...
Лёве показалось, что глаза у Куроптева стали белыми, как молоко. Он пожал плечами, распрощался и вышел.
«Схожу в школу, там, конечно, есть бумага», — размышлял Лёва, а ноги его шагали почему-то не к школе, а к больнице. На крыльце он потоптался, долго обметая снег с тобоков. В сенях сбросил малицу и решительно открыл дверь в приемную.
— Здравствуйте, Лёва! — Галина Васильевна шагнула ему навстречу. — Вы в больницу? Проходите, пожалуйста...
Он увидел её улыбку, смутился, не зная, куда деть свои руки.
— Присаживайтесь, — доктор придвинула стул.
Лёва неловко сел. «Отвык от стульев-то», — подумал он. Смотрел на шкаф с множеством бутылочек да пузырьков и чувствовал, что всё тело у него словно не своё, какое-то деревянное.
— Рассказывайте, что болит...
Что болит у этого парня, ни разу не прибегавшего к лекарству! Сердце у него немножко повредилось — так вот вылечи, доктор, пока не поздно. Ты ведь для того и училась, чтобы болезни узнавать. Так узнай и вылечи!
Он молчит, опустив глаза. Она ждет, чуть иронически глядя на него.
— Что же вы не отвечаете? Пришли лечиться, так отвечайте доктору.
— Ничего не болит, — буркнул Лёва.
Галина Васильевна улыбнулась.
— Если ничего не болит, в больницу не ходят.
Лёва быстро взглянул на неё. Лицо его вспыхнуло. Глаза потемнели.
— Если нельзя, я и уйду...
Он так порывисто встал, что она отшатнулась в испуге.
— Не бойтесь. Лечите других. Меня не надо... — Он хлопнул дверью.
Галина Васильевна растерянно стояла, не понимая, почему он так рассердился. Потом она подошла к окну и увидела, что он шагает по направлению к школе. Галина Васильевна поймала себя на том, что ей вдруг захотелось, чтобы этот странноватый парень вернулся.
— Вот пустяки-то, — улыбнулась она.
Ясовей встретил Лёву с распростертыми объятиями.
— О! Могучий агитатор! Чьих опять пастухов сагитировал уйти от хозяина?
Заметив, что парень хмурится, он участливо спросил:
— Ты что? Стряслось что-нибудь?
Он посочувствовал Лёве, узнав, что тот просчитался с бумажными фондами.
— Хорошо, посмотрим. Возможно, найдется у нас немного.
Ясовей пошарил по шкафам, заглянул в ящики стола — гладкой бумаги не оказалось.
— Тетради вот есть. Могу дать. На линованной-то ничего?
— Покажу редактору. Не знаю, согласится ли. Я думаю, можно и на линованной. Как по-твоему, Ясовей?..
— По-моему, беды не будет, ведь пишут же вместо гербовой на простой. Пойдем лучше чай пить...
За чаем Лёва был рассеянным, отвечал невпопад, наконец не выдержал, спросил Ясовея:
— Доктор долго здесь будет жить?
— Думаю, что она не в гости приехала. И работой увлекается...
— А замуж пойдет, как вы думаете?
Ясовей развел руками.
— Вот уж не знаю... Наверно, смотря по тому, каков жених, крепко ли любит...
— Вот, понимаешь, полюбил, — воскликнул Лёва и покраснел.
— А она?
— Она? Не знаю, я ведь не спрашивал.
Ясовей почувствовал, как в груди у него кольнуло. Что это, ревность? Чтобы погасить неприятное чувство, он стал быстро ходить по комнате. Потом нарочито бодрым голосом сказал:
— А ты всё же спроси. Ответит так же, как ты, тогда, что ж, будем гулять на свадьбе. Пригласишь, надеюсь?
Лёва расцвел, оживился. Он был теперь способен говорить без конца и без устали. Достал свою заветную тетрадку, попросил Ясовея послушать немножко, одно только стихотворение, а прочитал десять. И еще бы читал, да хозяин слушал без внимания. Это охладило поэта.
— Ну, как? Ничего? — спросил он, и было видно, что надеялся на похвалу.
Ясовей пожал плечами.
— Поправить — так можно, видимо, напечатать...
Лёва свернул тетрадку, стал прощаться.
— Куда же ты? Заблудишься ещё ночью!..
Лёва глянул в окно: верно, ночь. Но все равно ехать надо: завтра с утра предстоит набирать последний номер «Нердени».
— Тогда поедем, я тебя провожу. Не зря меня зовут Ясовеем — покажу дорогу.
Ясовей оделся, подошел к кроватке, осторожно приподнял легкое, как пух, меховое одеяльце. Смуглолицый, похожий на отца малыш крепко спал.
— Ишь ты, оленевод, хорошо едешь, твердо дорогу знаешь. Ну, спи! Завтра потолкуем.
Ясовей бережно прикрыл мальчика и, стараясь не скрипнуть дверью, вышел.