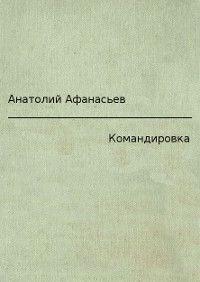— Тогда я попозже зайду, Владлен Осипович, — сказал я, — после обеда, что ли?
Перегудов точно вернулся откуда–то из заоблачной выси.
— А что такое?
— Вы ничего не сказали по поводу этого, — я показал на свой отчет.
Перегудов удивился:
— Все в порядке, Виктор Андреевич. Не сегодня завтра в Москву приедет Никорук, и мы обсудим частности. В принципе все ясно. Они берутся исправить неполадки в течение двух–трех месяцев. Нас это устраивает.
Я извлек из портфеля письмо и бумаги Прохорова.
— Вам посылка от старого знакомого, чуть не забыл. От Прохорова Дмитрия Васильевича.
Перегудов сморщился:
— Да уж, старый знакомый.
Он отложил пакет на угол стола, где у него, я знал, лежали бумаги, подготовленные в архив.
— Прохоров считает, что на доводку узла потребуется значительно больше времени. Не два–три месяца.
— Прохоров так считает? — усмехнулся Перегудов, и на лицо его вернулось обычное выражение спокойного торжествующего превосходства. Голос его обрел знакомую властность, зарокотал в басовом ключе. — Прохоров, значит, так считает? А кто он — этот Прохоров? Академик? Эксперт по особо важным делам? — И тут же смягчился: — Помню, помню, как же. Дмитрий Васильевич обладает своеобразным даром убеждения. Вижу, что и вам он сумел, как выражается моя дражайшая дочурка, запудрить мозги.
Я с трудом подавил ярко вспыхнувшее воспоминание о каком–то дожде, мокрых милых щеках, бессвязном доверчивом лепете.
— Помните, Владлен Осипович, вы сами уверяли, что Прохоров обладает незаурядными способностями…
— Ну и что же? — спросил Перегудов.
— Тут его расчеты и выводы, — сказал я и с невинной улыбкой переложил пакет из архивного угла под локоть Перегудову. — Он головой ручается за их верность.
Несколько мгновений Владлен Осипович смотрел на меня в упор. Я выдержал его взгляд, продолжал невинно улыбаться.
— Ручательство головой Прохорова — это не аргумент, — миролюбиво заметил Владлен Осипович, опустив руку на пакет, как в прежние времена клали ладонь на библию, клянясь говорить только правду. — Хорошо, Виктор Андреевич, чтобы помочь вам освободиться от навязчивых импульсов, обещаю внимательнейшим образом просмотреть эти… бумаги. Вы удовлетворены?
С тем я и удалился, провожаемый недоверчивым взглядом Перегудова.
Я не пошел сразу в отдел, пересек чахлый ииститутский скверик и присел на скамеечку, в тени возле фонтанчика. Июль в Москве стоял жаркий, по–южному истомный, но ветреный, неровный. Капризное солнце хороводилось с быстрыми, причудливыми облаками, носившимися по небу, как футболисты по полю. Порывы ветра изредка доносили от фонтана водяную пыль, настолько мелкую, что, оседая на коже, она мгновенно испарялась. Это напоминало прикосновения массажной салфетки. Хорошо было тут сидеть, потягивать горький сигаретный дымок и, прищурясь, глядеть в пространство сквозь бледные фонтанные струи. И думать об Анжелове, который покинул этот прозрачный мир, не успев ни с кем попрощаться. Так умирают всадники в конной атаке. Так умирают покинутые и позабытые всеми старцы во мраке своих ночных квартир. Валерий Захарович при всей своей общительности и доступности близко ни с кем не сходился и тем был похож на Перегудова. Оба они, окруженные множеством людей, поглощенные массой забот, оставались, по сути, одинокими, во всяком случае, здесь, на производстве. Что–то было в их поведении и манерах, не позволявшее никому преодолеть огораживающий их невидимый барьер. Дело тут не в служебном положении и не в разнице возрастов, а в чем–то более тонком и деликатном. Видимо, существует внутренняя психологическая отстраненность, мешающая некоторым натурам слиться душевно с другими людьми, как бы сами они к этому ни стремились. Как–то на одном из отдельских сабантуйчиков, посвященном то ли удачному закрытию темы, то ли какому–то празднику, Валерий Захарович выпил больше обычного и стал почти пьяным (настолько, насколько он вообще мог быть пьяным). С добрым, утратившим свою загадочность лицом он ходил вокруг стола, подсаживался то к одному, то к другому коллеге, ласково называл всех «голубчик ты мой драгоценный» и все пытался начать какой–то интимный разговор. Это было смешно и грустно видеть. Он был как старый волшебник, чудом заскочивший в те места, куда волшебникам давно нет ходу, и растерявшийся от увиденного. Волшебник, ищущий простака, чтобы задать ему ряд вопросов. Выискал он и меня среди скудного натужного веселья. «Голубчик ты мой драгоценный, Виктор Андреевич, — бормотал он слабым размагниченным голосом. — Ведь вот как чудесно все, по–товарищески, без выкрутасов. И так бы вот и в работе, и всегда. Что же мы нервы–то треплем друг дружке попусту. Что доказываем? Ведь вот — все добрые, умные, интеллигентные, а иногда, посмотришь, из пустоты, из амбиции иной как эпилептик делается, как черт с рогами. Зачем?.. Зачем свирепеть, безумствовать? Мало ли на свете истинных несчастий и горя…»
Я почти угадывал, чего ищет Анжелов, что он хочет услышать в ответ. Это была у него такая минута, когда тормоза сдают, когда хочется лететь куда–то, где не существует привычных понятий и символов. Я знал по себе, как это иногда накатывает и как потом бывает стыдно за допущенную слабость, которую большинство окружающих, разумеется, принимает за прорвавшийся наружу идиотизм.
Сейчас, когда Анжелов умер, он стал мне ближе и необходимее, чем прежде. Смерть разрушила дистанцию, поломала искусственную стену. Так, наверное, не только я чувствовал. Без него опустел для многих институт: и коридоры, и рабочие комнаты, и скверик у фонтана. Конечно, это скоро пройдет. К сожалению, это очень скоро проходит. Остановки у могил усопших–пусть самых прекрасных людей — значительно короче автобусных остановок. И у моего бугорка мало кто задержится дольше чем на мгновение. И за то спасибо.
А не потому ли так ненадолго и мельком погружаемся мы в чужую смерть, что бессмертны? И, провожая, прощаемся ли мы навсегда? Не потому ли?
К своим родителям я испытывал такую сильную привязанность, что, когда они умерли, готов был последовать за ними. И неизвестно, как бы удалось пережить то страшное состояние абсолютного равнодушия к продолжению своих дней, если бы почти одновременно с горем на меня не сошло спасительное дивное ощущение неокончательности их ухода. Ум мне говорил: конец, навсегда, безвозвратно, но какая–то не менее тугая и упрямая часть сознания твердила: нет, не горюй, все обратимо. Вы скажете — болезненное воображение, мистика. Возможно. Но что бы я делал со своим рассудком без доли слепого благодетельного верования в нем? Прошло время, утихла боль, но, как и прежде, в любой момент я могу усилием воли вызвать в себе это таинственное, звучащее точно долгий музыкальный аккорд, ощущение непрекращающейся связи с ними, давно истлевшими, ощущение, которое невозможно обозначить словами, ибо язык разума гораздо беднее наших чувств…
У входа на этаж меня встретили Володя Коростельский и Кира Михайловна Селезнева, младший научный сотрудник пенсионного возраста, женщина добродушная и на редкость чувствительная. Настолько чувствительная, что, когда надо было ехать на картошку, она всегда вызывалась добровольцем. Кира Михайловна никому не мешала, никогда не встревала в интриги и склоки и большую часть времени мирно просиживала за своим столиком, разложив перед собой какие–нибудь бумаги и делая вид, что с головой погружена в работу, а на самом деле с нетерпением поджидая, когда кто–нибудь освободится и с ней заговорит. Селезнева была еще и фантастической трещоткой. Она могла до бесконечности поддерживать любую тему и, чем глубже погружалась в дебри умствования, тем невозможнее становилось понять, о чем она, собственно, говорит. Справедливости ради следует отметить, Кира Михайловна никогда не обижалась, если случайный собеседник, внезапно помертвев лицом, обрывал ее на середине фразы, срывался с места и исчезал в неизвестном направлении. Она спокойно возвращалась за свой столик и спокойно погружалась в ожидание, изредка в поисках удобной позы поскрипывая стулом.
Я удивился, застав их вдвоем с Коростельским, который, будучи рафинированным интеллигентом, однажды выдерживал поток ее излияний в течение часа, а потом расплакался в туалете горючими слезами и заверил меня, что если еще хоть раз попадется «в лапы этой ведьмы», то наложит на себя руки. Но еще больше я удивился, заметив у Киры Михайловны сигарету. Должно было произойти что–то из ряда вон выходящее, чтобы она закурила, это она–то, восстававшая против курения со всей яростью женщины, пережившей двух сильно пьющих и безобразно чадящих мужей.
— Витя, Витя, задержись, пожалуйста! — умоляюще окликнул меня Коростельский. Чтобы его попугать, я сделал вид, будто хочу пройти мимо, но он бросился за мной и ухватил за рукав.
— Что случилось?
И тут на полную мощность включилась Кира Михайловна, торопливее, чем обыкновенно, заглатывая слова, а то и целые фразы. Пролился вешний поток.