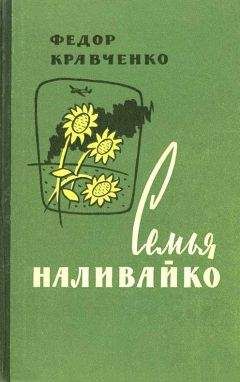Однажды он, раненный, приполз в землянку и, стараясь не глядеть на жену, простонал:
— Лечи, Варвара, а то, ей-богу, умру.
Он был весь окровавлен, хотя тело его покрывали пустяковые раны. Казалось, он просто побывал в густом шиповнике и поцарапался.
Когда тетка Варвара, проклиная судьбу, уложила его в постель, он вдруг расхохотался. И пока она лечила его, он рассказал о том, как добывал «языка» для Трясило, чтобы его, Никиту, в партизаны приняли.
— Наташа думает, что из меня никакой партизан не получится. Старый, мол, никудышный. А я говорю: «Старый конь борозды не портит. Хочешь «языка» приведу?» Она смеется: «Приведи, говорит, мы тебя в гвардию запишем».
Надо «языка» достать, думаю, а то партизаны будут надо мной смеяться.
Была у меня трофейная немецкая форма, переоделся я, заглянул в воду и самому себе опротивел. Прямо как настоящий гитлеровец стал.
Ну, ничего, думаю, можно потерпеть; зато определенно «языка» приведу. Иду лесом и вижу: самолет фашистский летит. Нехай, летит, думаю, раз мне стрелять нельзя. Партизаны зря стрелять запрещают.
Смотрю: какая-то нечистая сила — скок с крыла и вниз головой летит. Потом парашют раскрылся. Гляжу: спускается. Я автоматик свой приготовил и бегу гостя встречать. А он, нечистая сила, так ловко руками и ногами работает, прямо вроде плывет. За дерево зацепился, но все-таки слез на землю. Ножиком чик-чик веревки и оглядывается. А я тут как тут. «Здравствуйте, говорю, очень приятно познакомиться».
Говорю ему так, а у самого поджилки пляшут. Вижу: гость в форме советского лейтенанта, а меня, гитлеровца, не боится. Ну, я сразу догадался, что это за лейтенант.
Делать нечего, надо гостя принимать. Я и говорю: «Давно из Красной Армии не было у нас гостей, прямо соскучились. Что ж, садись, земляк, закурим». А земляк хмурится: партизан, мол, а в немецкой форме. «Зачем вражью форму надел?»
«Затем, говорю, что здесь много фашистских собак бегает — слопать могут. И тебе, говорю, тут опасно ходить, переодёться надо». А он, нечистая сила, смеется. «Я, говорит, могу переодеться на глазах у самих фашистов — до войны фокусником был».
Ну, раз ты фокусник, думаю, надо смотреть за тобой получше. И тут меня опять морозить начало. Узнал, узнал я нашего Сорочинского пана Николая Николаевича. Он в восемнадцатом году сопляком был, когда немецких оккупантов били. Ну, известное дело, он мной тогда вовсе не интересовался, а я его запомнил. Через сто лет мог бы узнать.
Ну, поймать я поймал его, а что дальше делать — не знаю. «Вас, спрашиваю, интересует партизанский отряд? Вы для связи приехали?» Он смеется, доволен, что я догадался. «Так точно, говорит, я послан для связи с отрядом, которым руководит некто Трясило». Так и сказал: «некто». Я это чудное слово навсегда запомнил. «На карте, говорит, его штаб обозначен, но не совсем точно, так что помоги разыскать».
Эге, думаю, губа не дура. Разбомбить товарища Трясило хочет. «Ну, говорю, пойдем, приведу туда в самый раз». Он ломается: «Не стоит беспокоиться, ты мне только покажи, куда идти».
«Сам не пойдешь, говорю, вместе пойдем». И веду его напрямик. Веду и думаю: как же это тебя связать, чтоб партизанам легче было доставить. Он посмотрел в карту и говорит: «Плохо местность знаешь, не туда ведешь». А я говорю: «Не волнуйся, я тут без компаса по всему лесу хожу».
А он еще больше волнуется. И все отстает от меня. Я уже сам вроде пленного — впереди иду. Потом не выдержал и говорю: «Давай-ка рядом пойдем, а то я вроде арестованный». Он, вижу, недоволен, но молчит — подходящий момент ловит.
И вдруг вижу: нечистая сила прет — фашисты идут навстречу. Пять человек, и все с автоматами. Смотрю на лейтенанта — ему утекать надо, а он усмехается про себя и даже кашлять начал, чтоб фашисты скорее нас заметили. Ну, думаю, капут пришел, прощайся, Никита, с белым светом…
Но все-таки не растерялся. Надел, думаю, нашу форму, так и получай по форме, как следует. И пока он усмехался, накинулся я на него, всунул ему кляп в рот и кричу не своим голосом: «Хальт! Хальт!» Потом повалил его на себя и только смотрю, чтоб кляп не выскочил. А гитлеровцы тут как тут. Он меня бьет, а они его. Он уже и про свою форму забыл, ногами от них отбивается. А они лупят его по чем попало. Я только смотрю, чтоб кляп не выскочил, чтоб он с ними заговорить не мог.
Лейтенант понял, в чем дело, и с отчаяния начал меня, как кошка, когтями царапать. Лысину разодрал, нечистая сила.
Ну, гитлеровцы, как увидали кровь, стащили его с меня, и тут пошла потеха. Сначала ему уши отрезали, потом обломали пальцы. Вижу: Николай Николаевич сознание потерял. Я тогда незаметно в сторону отполз. Думаю: с кляпом или без кляпа — теперь уже все равно.
А гитлеровцы режут его. Потом один из них сорочку заметил — своей немецкой фирмы. И еще на груди какой-то значок нашел: фашистский, конечно. Так они все и обмерли. Потом между собой: «гел-гел… гел-гел» — по-немецки, значит. И все своими глазищами на меня смотрят. Но не успели разглядеть: я автомат поднял да еще гранатой пригрозил. Они удирать начали. Я тогда и пошел строчить.
Смотрю: четверо упало, а пятый, нечистая сила, бежит. Я гранату метнул. В сторону, чтоб припугнуть гитлеровца. Он упал и ногами дрыгает…
«Не дрыгай, — говорю я ему, — все равно придется живого оставить. Потому как партизанам «язык» нужен».
Когда дядька Никита умолк, тетка покачала головой и со вздохом сказала:
— Не знаю, какого ты «языка» достал, а твой — без костей. С молодых лет все брешешь и брешешь.
— Не любо — не слушай, — возразил дядька, — а врать не мешай.
Конечно, и я и тетка не поверили ему. Тем неожиданнее было для нас появление Наташи, пришедшей по поручению товарища Трясило. Он велел ей узнать о самочувствии дядьки и поблагодарить за ценного «языка», доставленного в партизанский штаб.
Как только я начал выползать из землянки, захотелось найти тетрадь. Я не мог успокоиться, пока не добрался до тех мест, где когда-то погибла семья Полевого. Я то полз, то шел хромая, и, когда оказался в излучине знакомой реки, меня охватило такое волнение, словно мать увидел. Я долго не мог отдышаться и все лежал, глядя на камень, под которым прошлой осенью спрятал дневник. Этот камень я мог бы через сто лет узнать.
Затаив дыхание я подполз к камню, сдвинул его плечом. Вот она, выложенная цветными камешками, заветная нора. Я всовываю дрожащую руку в нору — и вдруг убеждаюсь, что тетрадь исчезла. Неужели партизанам удалось передать ее матери? А может быть, ее захватили гитлеровцы вместе с Полевым? Может быть, Наташа в самом деле подослана врагом? Слишком настойчиво допытывалась она, кто я такой.
Как-то она заметила, что я плохо вижу, и закричала:
— Ты близорук? Я так и знала.
Она обещала достать мне очки. Тетка Варвара совсем расстроилась:
— Думаешь, она очки принесет? Фашистов приведет к нам! Вот увидишь.
И впервые за все время тетка, запрещавшая мне отходить от землянки даже на десяток шагов, сама предложила погулять в лесу. Вот я и ушел на прогулку.
Вернувшись в землянку, я застал Наташу. Она что-то рассказывала угрюмой тетке Варваре. Увидев меня, Наташа вынула из брезентовой сумки несколько пар очков в отличной роговой оправе:
— Вот, выбери подходящие и носи на здоровье. Это трофейные. Фашисты на том свете и без очков обойдутся.
Лучше бы она не говорила этого. Очки хорошие, но противно было прикасаться к ним. Наташа притворилась, что не замечает моей брезгливости. Она спросила:
— Печатными буквами умеешь писать?
— Умею.
— А веришь, что Красная Армия разгромит фашистов?
— Верю, — сказал я, стараясь не глядеть на тетку, у которой от волнения задрожал подбородок.
— Вот и разъясняй это людям, — строго сказала Наташа, — убеждай их в этом. На карандаши и бумагу! Только погорячее пиши. Понял? А я завтра приду за листовками.
Как только Наташа вышла, тетка накинулась на меня:
— Что ты наделал, окаянный! Завтра она сюда фашистов приведет, и тебя и нас погубит!
Дядька Никита ввалился в землянку, таща за собой мальчика, с головы до ног вымазанного сажей.
— Принимай, Варвара, еще одного сынка, — горланил дядька. — Этого Степой зовут. Он тоже смерти в лапы попался и насилу-насилу вырвался: сколько дней в старом дымоходе прятался!
Когда тетка рассказала ему о подозрительном поведении Наташи, Никита помрачнел. Тетка Варвара хотела покинуть землянку немедленно, но дядька был настроен слишком воинственно, чтобы согласиться с Варварой. Он собрал гранаты в углу, взял автомат и устроился у входа. Тетка еще больше заволновалась:
— Сдурел ты, окаянный, что ли? Они с тебя живого шкуру сдерут, на части тебя разрежут. Если себя не жалеешь, то хоть бы нас пожалел.
— Не бойся, Варвара, — балагурил дядька, — их будет не больше роты, а с одной ротой я как-нибудь справлюсь.