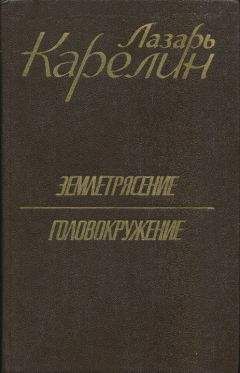Костя отвёл глаза, чувствуя, что и его рассматривают и тоже в упор.
— Стоп! —вдруг сказал молодой человек, бесцеремонно схватив Костю за руку. — А ты не Лебедев ли, не наследник ли тот самый, что прибыл из столицы?
— Да, я Лебедев.
— Ну вот! А я смотрю, чьи это парень брови приметные нацепил? Не доктора ли Лебедева? Будем знакомы: сын друга вашего покойного дядюшки. Григорий Уразов.
— Костя Лебедев.
— А это моя сестрица, мадемуазель Александра Уразова. На год меня моложе, на десять лет умнее и на целое столетие образованней. Впрочем, не зубрила. Целеустремлённость, воля. Я — противоположность.
— Не зовите меня Александрой. — Она разглядывала Костю серьёзно, внимательно, будто он был вещью какой‑то и надо было решить, чего эта вещь стоит. — Это имя вам не подходит.
— Мне?
— Да. У меня ведь множество имён. И это очень удобно, знаете ли. Я — Александра. Аристократизм, торжественность, официальность. Я — Саша. Это уже некий интим, не правда ли? Я — Шура, наконец. Это как домашнее платьице, это для родственничков. Зовите меня — Ксаной.
— А это имя как растолковывается?
— Сами сообразите. Для вас оно подходит. А мы идём к Анне Николаевне. Наш отец был выслан вперёд. Он вам не повстречался? Во–первых, борода, а во–вторых, чуть–чуть похож на меня с братом.
— Да, Лукьян Александрович уже прибыл. Верно, вот теперь я понял, почему вы оба мне показались знакомыми. На отца своего похожи — вот почему.
— Мы — на отца, вы — на дядю. Верный признак заурядности, правда?
— На кого же прикажете походить?
— На самих себя. В единственном чтобы быть экземпляре. Ну, пошли. Старики чтут в нас почтительность. Из нашего папеньки можно верёвки вить, если только не будешь опаздывать к обеду.
— Мудра, мудра, — сказал Григорий. Он шёл позаду, уступив место рядом с сестрой Косте. —А вы смотритесь. Хвала аллаху, парень оказался не карликом. Это было бы ужасно, если бы он был, скажем, ниже тебя на голову.
— Ну и пусть бы, велика беда, — сказала Ксана.
— Ах, сестричка, не прикидывайся. Не твоя ли это заповедь: откровенность превыше всего?
— Но только не в твоих устах, брат Григорий. Солгать, куда ни шло, ты ещё сможешь, но быть откровенным — это требует мастерства. Вот, учись, — Она обернулась к Косте. — А знаете, юноша, ведь вас прочат мне в женихи. Вам сколько лет?
— Скоро двадцать.
— А мне скоро девятнадцать. Словом, разрыв в возрасте всего год. Мало. Вы — родились в Москве?
— Да.
— Странно, вы как‑то не похожи на москвича. Вот покраснели вдруг. Вы не пугайтесь, я за вас замуж не собираюсь, хотя вы партия и выгодная. Ну, не вы как личность, а в качестве наследника одного из крупнейших состояний нашего города. Гриша, умоляю, загляни ему в лицо. Он сейчас умрёт от разрыва сердца. Костя, я напугала вас? О, простите! Но это заговор стариков. Я обещаю вам: вы никогда, никогда, никогда не станете моим мужем. Разве только…
— Ага, все‑таки лазейку для себя ты оставляешь, сестрица.
— Глупый, не для себя. Нельзя же лишать человека пусть крошечной, но надежды.
— Боже мой, и я брат этой умнейшей из женщин?
— Да, умнейшей, и тебе не удастся, братишечка, меня сплавить.
— Ив мыслях, и в мыслях не держу! — Григорий клятвенно воздел руку с пижонским браслетом, который сполз ему на локоть.
— Погляди‑ка на него, Костя. Провинциальный актёр! Фальшивый голос, фальшивый жест. Давайте условимся: никакой фальши в наших отношениях. Решено?
— Решено. — Они подошли как раз к дому Анны Николаевны, и Костя нажал на звонок, да так сильно, что звонок захлебнулся.
— Допекла ты парня, — сказал Григорий. Сочувствуя, он положил Косте на плечо руку. Отцовским движением, сам того не ведая. И хотя рука у сына была куда полегче, Косте она тоже показалась тяжеловатой.
Отворилась дверь, на пороге возник животом вперёд Лукьян Уразов, и где‑то под локтем у него просунулась Лиза.
— А, уже познакомились? — Уразов излучал радушие и даже благодушие, но глаза его припрятанные посматривали зорко, синими точечками посверкивая из глубины.
— Пожалуйте, пожалуйте, пожалуйте, — шелестел Лизин вкрадчивый голосок из‑под его локтя.
5
Стол был накрыт в саду. Костя подумать не мог, что при доме есть сад. Да ещё такой. И это в центре города. А сад был удивительно красив, он не велик был, с десяток деревьев, виноградной перевитых лозой, но деревья эти были хороши, с раскидистыми сильными ветвями, с ещё не выщербленными осенью кронами, и деревья эти стояли не по ранжиру, а вольно. В их листьях рдели неправдоподобно громадные плоды. То были яблоки, но царственные какие‑то. И где‑то журчала вода, ручей протекал. Его только слышно было, и все же исходила от него прохлада. Доцветали в этом саду удивительные, невиданные цветы, совсем такие, как на картинках к сказкам. В сад, как в лицо человеческое, можно влюбиться с первого взгляда. Костя влюбился в этот сад, едва ступил в него. И сразу отыскал в нём глазами близкие сердцу укромные уголки, и жалко ему стало, что раньше не знал он этого места — раньше, когда ещё можно было, не стыдясь никого, играть в разведчиков, в охотников на львов, а лучше — на пятнистых пантер. Пантер было не жалко, они были коварными, беспощадными.
Вот в этом саду, под навесом из виноградных лоз — руку протяни и сорвёшь виноградину — и был накрыт стол для гостей. И самым диковинным на этом столе, щедро уставленном всякими яствами, был самовар, российский, пыхтящий, жаркий самовар.
Анна Николаевна уже перебралась в сад, сидела в кресле во главе стола. Над креслом укреплён был большой, из парусины зонт. Где‑то, на какой‑то картинке видел Костя такой зонт, такое кресло. И этот стол в саду с самоваром он тоже где‑то когда‑то уже видел. То ли фотография то была, то ли в фильме каком‑то промелькнуло. В фильме про старину, про времена, возможно не столь уж давние, но безвозвратно канувшие. Нет, не канули, да и вовсе не худо в них снова пожить — в тех временах, где сад чудесный, где самовар-симпатяга, где щедрый стол под тенистым деревом, а рядом ручеёк журчит и девушка, которую зовут Ксаной, такая же, та же, почти та же, что и в рассказах у Чехова, в рассказах у Бунина. Нет, и та и не та. Нет, она нынешняя. И братец её тоже. А вот спектакль здесь ставится из старых времён. Но решено, он в этом спектакле участвовать не будет. Разве что поглядит со стороны. Это даже забавно и даже полезно, если учесть, что он избрал профессию журналиста. Изучай жизнь, парень. Пригодится.
Его звали к столу, Анна Николаевна поманила его вялой рукой и указала на место справа от себя и подле Ксаны. Та уже чинно выпрямилась на стуле, стародавнем таком, с плетённой из соломки спинкой. Костя сел рядом с Ксаной, и она скосила на него дерзкие свои, но сейчас пригашенные ресницами глаза.
— А что я говорила? — чуть шевельнула она губами. — Заговор! — Громко же и для всех она произнесла: — Говорят, в столице мини–юбки уже сходят? Верно это? Вместо мини стали макси носить, до пят. Верно?
— Верно, — кивнул Костя. — Стали встречаться девицы в юбках до пят.
— Внял господь нашим молитвам, — сказала Лиза и благочестиво возвела глазки. — И во всём так будет. Поворот во всём! — Она пророчески вскинула руку.
— Боярыня Морозова, — сказал Григорий. — Внимание, внимание!
— А ты, бородушка, помолчал бы. — Лиза не обиделась, что с боярыней опальной её сравнили, она была старушкой не обидчивой, но и спуска не давала: — Сам-то, сам‑то каким стал. Ни дать ни взять — опричник.
— Григорий Уразов! Стольничий царя Ивана! — сказала Ксана, пригашивая глаза ресницами. — А что, звучит. Жаль, опоздал ты, братец, родиться.
— А я так думаю, что в самый раз Гришуня мой на свет вылупился, — сказал Уразов–старший. Он посмеивался, но был и серьёзен, он был горд сыном. — Время наше затейливое, а Россия и всегда была не проста. Как там ни называй русского человека, в какие там наряды ни обряжай, бороду руби или отращивай, а русский человек из любого обличия проглянет. И, дивное дело, похож, похож один муж на другого, хоть и века между ними пролегли. На том стоим.
— В чём похож? — тихонько спросила Ксана, и вспыхнули её глаза сердитой синевой. Она была не согласна с отцом. Она спорила с ним, и это был не сиюминутный спор. Потемневшие глаза её, голос, который надо было сдерживать, — всё говорило, что спор этот был давний.
— Во всём! — сказал Уразов–старший и строго глянул на дочь. — Природа человеческая — самый упрямый материал на свете. Это я тебе как скульптор говорю. Гранит подчинится резцу и молотку, глина ляжет под пальцами, металл уступит огню. Природа человека, душа человека, даром что сие все неосязаемо, ни под какими кувалдами, ни в каких плавильнях не переменится. Ну, затаится — это так. Ну, на сто лет иной прикинется — тоже возможно. Но прикинется, а не станет. И, чуть что, чуть щёлочка какая‑нибудь, а уж весь объем былой восстановлен. Доченька, не спорь со мной, глупа ещё ты, хоть и умная. Поживи, пооглядись.