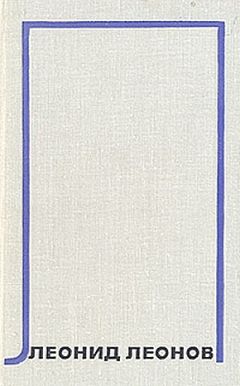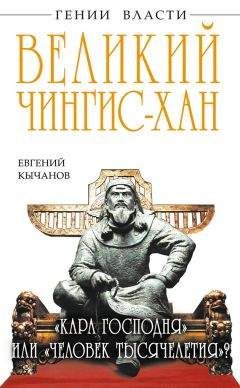Тынлагез! Я увидел молодого князя. Он был как розовое дерево весной. Свои кричали его Джаньилом. Это у него борода была как русый шелк. Вайе, Ытмарь хорошо ударила его саблей, и он хорошо принял удар, не качнулся в седле. Ему на подмогу летел четвертый Мстислаб, мыча, как немой. Но он не успел опустить меча. Он упал с коня одновременно с ним самим, ударив подбородком в луку седла.
Катилось медленное солнце вверху, и оловом безумства наливались головы. В меня метили хорошо. В меня нельзя не попасть: я большой, я широкий, у меня конь — как я сам. Вот длинная стрела, треть копья, сорвалась с тетивы толстого орусского барласа в красном колпаке. Она впилась мне в руку выше локтя. Аммэна, хга! Я вырвал стрелу и бросил ее обратно. Колпак стал еще красней, а толстый упал грузно вниз, как турсук с вином, пробитый ножом сквозь.
День приходил к концу. Олово начинало стынуть. У меня растрескался язык и мешал дышать. Калка запрудилась. И вот тут случилось это: мои дада дрогнули. Юк, — они не бежали, нет, они стали оглядываться на меня, то хуже. Тогда я ударил немым Хагадаканом в толщу людского затора, и вот он разорвал ряды, как ветер тучу…
Я сразу увидел тысячу согнутых спин. Мои рычали. Их лица, смоченные потом и кровью, покрылись коркой пыли. Их лица были страшны. В каждом был Чингис, а я почуял вдруг, что не один, а тысяча таких, как я, гневно ревут в моем сердце.
Мы перешли Калку. Барабаны хрипели о победе уже за три фарсанга впереди. Стрелы не достигали нас. Я пустил узбеков добивать.
Над самой Калкой, на том холму, который был невысок, два Мстислаба окружились кольями. Они не хотели терять ни надежды, ни жизни, — крот, раздавленный копытом, все же ползет к норе. А третий Мстислаб бежал. И того, который бегал так хорошо, оруслар звали Удалым. Я Борзым его назвал, он был непостижимой быстроты. Мстислаб Борзой, буякши! Он был толст, конь спотыкался под ним. Он перешел большую реку. Он сжег лодьи. Он не оглядывался. Может быть, у него было лицо ночной мыши, я не узнал.
Я приказал словом хакана:
— Догнать, хотя бы он уцепился за небо. Аммэна, — всунуть в него палку и вертеть, покуда не отдаст жизни, ненужной и камню!
Вайе, Хагадакан не сумел догнать. Смелый бегает, как лунный поток, трус — зайцем. У волка острые зубы, но заяц бегает быстрей.
Засевших в кольях окружил Чегиркан с людьми Ташукана. Ташукан не был на моем пиру. Ташукан ушел в шатер брата. Полдневная рана в живот означает конец, будь то конь или воин.
…А ночь пришла лунная. Лунное холодное молоко текло, все текло. Степь и ночь, пропитавшись им, делались прозрачными, стыли так. Семь Воров Неба натянули луки в Горного Козла.
А на большом поле с пустыми колчанами, с пробитыми головами лежали мои, победившие, добыватели славы. Так же, обнимая друг друга, держа стрелы в глазах, лежали и не мои, никого не победившие. От них пахло сыромятным ремнем: запах свежей раны, куда поцеловала смерть. Голова моя начинала тяжелеть, и я снова припомнил про старость, но это было не то. Лежали по земле, среди тел, стяги и колчаны. Подобные безлистым палкам бударана, торчали копья и стрелы из тел.
Я поехал по полю. Луна текла мне навстречу. Вот, перегнувшись спиной надвое через разорванное брюхо коня, лежал лицом вверх князь. На его шее золотая цепь, а на груди вышит красным шелком человек с крыльями, как у птицы. Левый глаз его был закрыт, а правый прищурился в небо. Его лицо показалось мне храбрым. Я повернул человека, ища раны. Я нашел рану. Рана была ниже спины, осколок копья в локоть торчал оттуда, как хвост. Я ткнул мертвого один раз ногой, ибо что стоит сердце мертвого труса? Я засмеялся ему в лицо. Я сказал, подставляя ему грудь, на которой не было даже кожаного нагрудника:
— Ты трус и заяц. Бей! Он промолчал. Я сказал:
— Ты грязная собака. Бей!
Он опять молчал. Я отъехал прочь. Зверь, который съест его сердце, умрет, не увидев луны следующего вечера.
Потому, что я услышал тихий плач с реки, я поехал туда. Я увидел. Я сотрясся. Согнувшись над человеком, лежащим неподвижно на песке, лицом к лицу, негромко плакала Ытмарь. Я подъехал.
Ее косы были гладко заплетены. В луне мерцал бледно-золотой шелк ее наха. Вайе, кривые стрелы! Я приподнял ее за плечи. Она взглянула на меня глазами жеребой кобылицы, у которой рана в живот. Ее глаза были туманными от тоски. Она не увидела меня.
Я наклонился к человеку. Я узнал его. Это был тот, молодой эджегет орус, Джаньил. Его девятиглазая байдана была пробита и порвана лоскутом. Кольца сияли в луне. В дыре я увидел сгусток крови в ладонь.
Я взглянул в небо. И вот теперь я почуял, что сломана вторая оглобля моей арбы. Я дрогнул. Я увидел в небе звезду Омур-Зайя и понял, что ресницы мои сосчитаны. Она висела надо мной, острая, подобная тригранному кингару. Она незаметна для тех, про кого говорили: «Вот родился, который счастлив, ибо у него голубое лицо…» Я сказал тихо:
— Ты хорошо бьешь, Ытмарь. Одним ударом — трех. Тынлагез баргузда! У него были синие глаза, а у меня — цвета обожженного камня. У него была борода, как русый шелк, а у меня подбородок давно опалился солнцем и огнем.
Его глаза! Они наполнились лунным молоком, как чаши Худды, но там, на дне их, я увидел две черных точки смерти, малых, как срез конского волоса. Два укуса разлучающей навсегда!
Он был как мальчик. У него был вид, словно он не переломил ноги ни одной курице. И он стонал. Аммэна! У него была одна рана, и он стонал, а у меня были четыре раны, я прокусил язык, чтоб не упасть с коня, и я молчал… Аммэна, я молчал! Кто слышал?
Я слез с коня и сказал:
— Не надо плакать. Мертвым обидны слезы живых. Она не оглянулась, но вздрогнули в ее волосах горячие зеленые камни бугтака и тесней сомкнулось гагатовыми зернами чернобусое ожерелье у нее на шее. Гагат растворяется в луне, как соль в воде, и луна делается горькой, как вкус гохай ширгкэк, вырастающей из безводного камня.
Луна текла в небе. Мертвые караулили живых! Из куста над обрывом вырвалась птица чибис.
Ытмарь, раскачиваясь, пела одними губами. Эйе, никто не целовал их — только луна, как сестру, — она пела песню.
Я прислушался, я услышал. Я понял все, и мне захотелось, чтобы кто-нибудь другой встал под кингар смертной звезды. То была старость. Текла луна. Мертвые караулили живых. В замутневшее, неостылое небо покойно глядели недвижные голубые глаза. Ытмарь раскачивалась, подогнув ноги, и пела неслышно про царевну Луну, полюбившую батыря Дубарлана.
Я встал с колен. Эвва, кто мог знать, что завтра же пика в черном войлоке встанет над юртом в знак смерти дочери Покорителя Средин?
Текла луна.
«…И тогда пришла Луна в шатер Дубарлана. И заглянула ему в глаза. А он… был… мертв…»
В пору, когда ложатся спать, — тогда была старость шестой луны, — карбекчи принесли мне две вести. Один сказал:
— Чегиркан взял колья. Плоскиня выдал князей. Их шестеро, а седьмым он сам.
Плоскиня был бродник. Он целовал мне землю, но перешел к князьям. А когда перешел — изменил им. Он изменил дважды. Разжиревшая собака кусает хозяина. Я приказал:
— Плоскиню повесить на шею верблюда и бить кнутом.
Второй вестник сделал руками щелк-щелк, боясь слов. Я сказал, чтоб говорил. Он сказал потом:
— Ытмарь… убила себя.
Хга, теперь я умею только лаять, а тогда я умел рычать. Вот я зарычал: дым гнева исшел из моей гортани. Я с маху вонзил саблю в землю по рукоять. Я бросил горсть земли за пазуху. Я вскочил с войлока и разодрал на полы свой эмирский халат. Голосом, как медь, я крикнул на весь стан:
— Бетты юлды хакан кызы! Доски и князей сюда! Мы сядем на грудь князей. Мы будем пить бол и есть самусек. Тело их — еда собакам. Кагер душманга! Здесь голубые глаза жалят сильней стрелы…
Я рычал, эйе! У меня были четыре раны, а про пятую не знал никто. Люди закрывали лица, чтобы не видеть моих глаз.
Тогда принесли доски. И тогда привели князей. Они жались друг к другу. Ытлыр, — на каждой из моих скул сядет по одному! Мои глаза раскосились назад. Я сложил их, князей и зайцев, как тангуты кизек, и положил на них доску.
Тогда в котлах принесли бол, и к ногам, подобные собакам, прилегли покорно сабы с кумызом. Вот мы сели, двадцать, на одну доску, буякши! Мы стали пить. А в тот вечер небо набухло громами, и ветер был в сторону Кипчи. Я приказал зажечь степь. Аммэна, — дочь хакана уходит в голубые улусы Худды!
…Небо пылало закатом. Закат будто сошел в степь. Она пылала, и мы были как в небе. И мы не знали, где начинается небо и кончается степь. Я был как пьяный. Тысяча подобных мне, столпясь в табун, выли во мне, как волки в зимней степи. Кто слышал?
А мои гаскеры, добыватели славы, пели у костров:
«Чингис поцеловал Туатамура. У Туатамура острые зубы и верные люди. Люди как зубы, зубы как люди, — мы перегрызаем всё. В колчанах много стрел, в сердцах много ярости, — победа цветком алым на новом щите!»