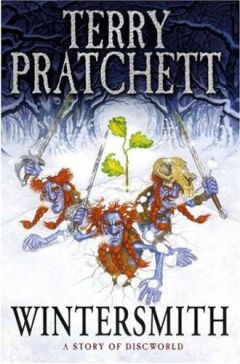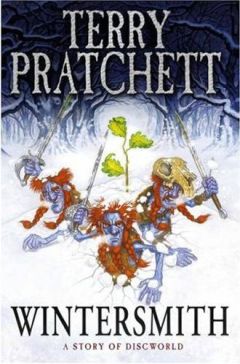— А так, на разговоры, — повторил Лбов. — Я понимаю — оружие покупать, бомбы; ты скажи, чтобы больше бомб привозили, беда как люблю бомбы — на это я понимаю, а что зря языками трепаться. Да скажи, чтобы к маузеру мне патронов привезли, — добавил он, опять срываясь на прежнюю мысль, — побольше патронов, мне очень нужны хорошие патроны. — Потом он помолчал и, точно принимая окончательно какое-то решение, добавил: — И хорошие ребята тоже нужны. Только такие, которым бы на все наплевать.
— Как наплевать? — не понял его Федор.
— А так, в смысле жизни.
Вскипятили чай, а за чаем много говорили. Лбов оживился, его темные глубокие глаза заблестели и, крепко сжимая руку петербургского товарища, он сказал:
— Так пусть приезжают, пусть обязательно приезжают, мы тогда такое, такое устроим, что они дрожать будут, собаки.
Потом сел на лавку и спросил:
— У тебя книжки с собой нет?
— Есть, — и Федор подал ему. — На, читай пока.
— Я не могу сам, — резко ответил Лбов и с досадой сжал губы. — Учиться не у кого было, — добавил он зло.
Он не любил, когда ему приходилось вспоминать о своей безграмотности. Это было его больное место.
— Я прочитаю, давай слушай, ребята! — и Степан взял книгу.
Огонек лампы тускло дрожал в задавленной лесом, в заметенной снегом землянке. И три бородатых человека молча слушали четвертого, и из маленькой затрепанной книжки выпадали горячие готовые слова, выбегали горячими ручейками расплавленных строчек и жгли наморщенные лбы пропащих голов.
— Читай, читай, — изредка говорил Лбов, когда Степан останавливался, чтобы передохнуть, — начинай опять с прежней строчки.
— «…теперешнее правительство само порождает людей, которые в силу необходимости должны переступить закон. И правительство, с неслыханной жестокостью, плетьми и нагайками пытается взнуздать этих людей и тем самым еще больше ожесточает их и заставляет их решиться: или погибнуть, или попытаться разбить существующий строй…»
— Это про нас, — перебил Лбов, — это написано как раз про нас, которые жили, работали и которым некуда теперь идти. Для которых все дороги, кроме как в тюрьму, заперты до тех пор, пока будут эти самые тюрьмы. Давеча вот ты читал что-то насчет цены…
— Ценности, — поправил Федор.
— Насчет ценности. Это лишнее. А вот про это, про что ты читал, писать надо. И потом, достань мне, милый друг, где-нибудь книжку, в которой написано, как самому делать бомбы.
— Хорошо, я пришлю, — сказал питерец и с удивлением посмотрел на Лбова: сколько в нем энергии, неорганизованной воли и ненависти.
И питерский товарищ подумал, что хорошо бы частицу этой глубокой, сырой ненависти вселить в умы рабочих столицы; тех, которые, сдавленные жандармскими аксельбантами после проигранного восстания, начинают опускать головы и падать духом.
Они долго еще говорили.
В эту снежную, темную ночь долго трепыхался огонек в маленьком окошке лесной землянки, и в эту ночь выросла из сугробов заброшенная землянка, — выросла и бросила вызов городу, застывшему над берегом Камы.
Но город усмехнулся в ответ сотнями огней. Был он закован в каменные стены, был он богат белым серебром винтовочных пуль и красной медью казачьих шашек.
Усмехнулся и не принял вызова город.
С первым пароходом шестеро рабочих Сормовского завода, приговоренных к смертной казни, бежали из Нижнего Новгорода в Мотовилиху. Несколько дней они трепались с гармошкой без дела по улицам, был их коновод Митька Карпов голосист, и черный чуб чертом выбивался из заломленного картуза.
Однажды вечером, когда всей гурьбой они шатались по улицам, с ними встретился конно-казачий патруль и потребовал предъявления документов. И ловко закинулась гармошка на спину, и быстро вынырнули из глубины карманов револьверы, и громко ахнули шесть выстрелов в гущу казачьего патруля.
Наклонился набок стражник Ингулов и, падая, выстрелил и прошиб шею Митьке Карпову, которого подхватили товарищи и под выстрелами унесли прочь.
— Стой! — крикнул около одной из хат Симка-сормовец. — Они нагонят нас, давай стучись в эти ворота. Тут свой человек живет.
Калитку отперла хозяйка, и все шесть ввалились в сени.
— Дома хозяин?
— Нету! Нету! — испуганно заговорила хозяйка. — Да куда же вы идете, у меня там чужой человек сидит.
— Стой, стой ребята… Кто это чужой человек?
— Еврейка какая-то попросилась переночевать.
На улице послышался топот, и тяжело дыша, громыхая шашками, пробежали мимо городовые.
— Вот те и ядрена мамаша, — почесывая голову, проговорил Симка, — а что ж теперь делать-то и на какой черт впустила ее? Ну все равно на улицу теперь не выйдешь, леший с ней, с бабой.
Митьку ввели в хату. Черная женщина лет тридцати пяти с распущенными волосами испуганно вскочила с лавки, когда увидела перед собой шестерых незнакомых человек и кровь, расплывавшуюся по шее и лицу одного из них.
— Откуда это? — спросила она, запахивая распахнутый ворот кофточки.
— Оттуда, — коротко ответил Симка и выругался. — Дайте же чем-нибудь человеку шею перевязать, али не видите, как у него кровь хлыщет?
Женщина быстро раскрыла дорожную сумку, вынула оттуда бинт, надломила стеклянную пробирку с йодом и умело начала перевязывать раненого.
— Ишь ты, — удивленно сказал Симка, — и откуда это она, на наше счастье, взялась? Ты кто хоть такая?
Но прежде чем она успела что-либо ответить, в окошко постучали. Ребята схватились за револьверы. Распахнулась дверь, вошел хозяин квартиры Смирнов, и с ним Лбов.
Лбов вошел, как будто бы давно был со всеми ребятами знаком. И заговорил быстро:
— Давай раненого оставьте здесь, завтра к нему придет доктор. А все остальные — за мною. А то полиция тут так и кружится, я насилу прорвался.
Ни у кого в голове не мелькнуло даже и мысли ослушаться его, и все пятеро направились к выходу, но Лбов вдруг быстро шагнул вперед, крепко стиснул руку незнакомой женщины и, дернувши ее к свету, спросил с удивлением у хозяина:
— А это кто? Откуда еще тут такая?
— Не знаю, — смущенно ответил тот. — Это баба без меня кого-то пустила.
— Просилась переночевить, рубль дала, вот я и впустила, — запальчиво ответила жена. — У тебя, у черта, хоть копейка есть? К завтраму жрать нечего, а ты вон чем занимаешься.
Муж не ответил ничего. Лбов нахмурил брови, достал из кармана десятку, положил на стол, потом сказал:
— Оставить тут ее нельзя, черт ее знает, что за человек, а кроме того, у баб языки долгие. Одевайся валяй.
Но черные, точно выточенные брови еврейки даже не двинулись — она молча накинула пальто, яркий цветной платок и вышла на улицу.
Два раза от разъездов шарахались все в темноту.
Чтобы не навлечь полицию на оставленного раненого, Лбов умышленно избегал перестрелки.
На берегу Камы он легонько свистнул и замолчал. Прошло минут пять — никого не было.
— Ты зачем свистишь? — спросил его Симка.
— Увидишь, — коротко ответил Лбов, — я даром никогда не свищу.
Послышался плеск, из темноты вынырнула лодка и причалила к берегу. Все семеро сели молча, и лодка темным пятном заскользила по Каме. Слезли на том берегу. На опушке, пока ребята закуривали, Лбов подошел к еврейке, молча усевшись в стороне на срубленном дереве, и спросил:
— Чего же ты молчишь и откуда ты на нашу голову взялась? Убивать тебя вроде как не за что, а в живых оставлять тоже нельзя. И куда я тебя дену?
А ночь была такая звездная. И вечер был такой мягкий. Женщина встала, скинула платок и вдруг неожиданно обняла его за шею.
— Милый, — сказала она шепотом, — милый, возьми меня с собой.
Лбов никак не ожидал этого.
— Вот дура-то, и как это ты скоро… Да на что ты мне нужна! — Он хотел было оттолкнуть ее, но она еще крепче зажала руки на его шее и, прижимаясь к нему всем телом, прошептала:
— А может, на что-нибудь?
А ночь была такая звездная, и вечер был такой весенний. И Лбов вспомнил, что собственная его жена теперь отгорожена барьером казачьих шашек, и Лбов уже мягче разжал ее руки.
— Ты дура, — сказал он ей.
И Симке-сормовцу, который стоял недалеко, показалось, что он улыбнулся, а может быть, и нет — разглядеть было трудно, потому что ночь была весенняя, говорливая, но темная.
Но то, что женщина улыбнулась и блеснула черными глазами, — это Симка-сормовец разглядел хорошо.
Это было на берегу речонки Гайвы, узенькой мутной полоской прорезавшей закамский лес.
Лбов лежал на берегу речки, а Симка-сормовец запекал в углях картошку, когда невдалеке послышался вдруг резкий свист.