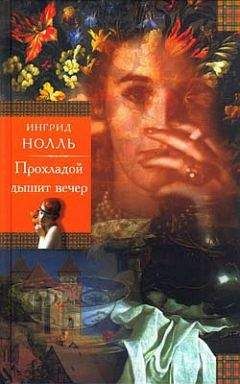Дочь Маръяша, разряженная в пух и прах, с мужем-конструктором прибыли из Запорожья, младший сын Лазарь, техник, орденоносец, — из шахтерского поселка под Макеевкой; из Гуляйполя прикатила тетя Перл, депутат районного Совета, с двумя внучками, студентками животноводческого техникума, а из далекого Бреста прилетел на две недели в отпуск лейтенант пограничной службы, старший внук Зорах с хорошенькой белокурой женой Ксенией и трехлетней дочкой.
Как только приехали, все — дочери и невестки, сыновья и зятья — принялись за работу. Мужчины, сбросив пиджаки, пилили доски, отесывали столбы, копали ямы. Посреди двора, между колодцем и клуней, на том самом месте, где пятьдесят лет назад Додя и Хана справляли свою свадьбу, вырос большой балаган, а там — длинные столы и скамьи.
Женщины — старухи, молодухи и девушки — хлопотали на кухне. Одна нарезала душистый медовый пряник, другая разлизала по блюдам сдобренный чесноком студень, третья специальным зубчатым колесиком строчила тонко раскатанное яичное тесто.
Посреди комнаты стоял длинный, широкий стол — низкий и массивный, на устойчивых круглых ножках, за который когда-то вместе с отцом и матерью усаживалась вся семья — четверо сыновей, три дочери, дедушка, бабушка и прабабушка. Сейчас здесь в больших эмалированных чашках мыли посуду — неимоверное количество тарелок, глубоких и мелких, толстых и тонких, фарфоровых и фаянсовых, с синей и бледно-зеленой каемкой, белых и с цветочками; чайные блюдца и блюдечки для варенья, миски и супницы; разнокалиберные ложки и вилки, обычные алюминиевые и старомодные мельхиоровые, — словом, тут была вся бурьяновская посуда, которую Хана собрала у хуторских хозяек к завтрашнему дню.
На другом столе, у выходившего на улицу окна, дочери и невестки мыли рюмки и стаканчики; чистили мелом серебряные, вытирали полотенцами стеклянные — граненые и гладкие, высокие и пузатые, голубые, розовые и матовые, пасхальные, сохранившиеся еще от дедов и прадедов, первых здешних колонистов.
В боковушке, где за пестрой занавеской спала глухая девяностосемилетняя прабабка Ципойра, Ксения с Марьяшей утюжили шуршащие накрахмаленные скатерти. Все были заняты, хлопотали, бегали, сбиваясь с ног, и не умолкали ни на минуту, засыпали друг друга вопросами, советами, выкладывали друг другу последние семейные новости.
А виновники торжества, коренастый седоголовый Додя и его еще бодрая, зычноголосая Хана, Хана Трактор, как ее называли на хуторе, он — в белой рубахе и праздничном сюртуке, она — в темном шелковом платье, наблюдали за внуками и правнуками.
Ребятишки, шалуны, один отчаянней другого, уже успели перезнакомиться, и повсюду, в ярко освещенных комнатах, в темных сенях, в палисаднике и во дворе, слышался их веселый гомон, словно все вокруг, весь шар земной, все небо принадлежали им одним.
Была ночь, когда Доде и Хане кое-как удалось уложить ребят спать. Всем постелили на полу, девочкам в одной комнате, мальчикам в другой.
Только потом улеглись и взрослые. Кто не поместился в доме и в сенях, лег под выстроенным накануне балаганом, а то и просто под чистым небом, на траве или на свежем, еще не слежавшемся сене около клуни.
Глава четвертая
Нехамка и не заметила, как миновала пустой загон, ряды телег и жаток возле приземистой кузницы и вышла за околицу. У плотины остановилась.
В степи неутомимо трещали кузнечики. На могилках прокуковала кукушка, замолкла, потом опять начала. Время от времени с пастбища доносилось одинокое тоскливое ржание, ему вторил глухой лай хуторских собак. А в камышах звонко квакали лягушки.
Ночь полна была знакомыми волнующими звуками. Хорошо, что на лугу ржет кобылица, чего-то не хватало бы без ее ржания. Хорошо, что лают собаки, что над чьим-то колодцем скрипит ворот, что гудят провода и так дружно, заливисто стрекочут кузнечики…
Все вокруг до боли прекрасно. Небо темное, темно-синее, в ярких мигающих звездах, и кусочек его лежит внизу, в тихом, словно застывшем ставке. Камыши в воде отливают серебром… И так плавно поднимается в гору широкая, в спокойных извивах, дорога. А там вдали много-много крохотных огоньков — это Ковалевск. А над плотиной светит полная луна… От ставка веет свежестью, из степи — густым запахом созревающих хлебов.
Чудная ночь… И вот она проходит, а Нехамка одна… И все из-за него! Тут Нехамка вспомнила о яблоке, которое она для Вовы, для Вовы же и сорвала! Она вынула яблоко из кармана и прижала к горячей щеке. Яблоко было прохладное, от него шел кисловатый запах недозрелого плода. «И зачем только я таскаю его…»
Размахнувшись, швырнула его в ставок. Раздался плеск, темная гладь воды зарябила, круги расходились все шире, шире, пока наконец тихонько не коснулись насыпи.
У Нехамки слезы выступили на глазах. «Теперь все… кончена любовь…» — сказала она себе, всхлипывая и вытирая косой мокрые щеки. Плечи ее вздрагивали. Все как назло! А в клубе все еще играет музыка, а он — он там, с другой…
Но Вовы уже не было в клубе. Закончив танцевать, он огляделся и сразу же заметил — Нехамки нет. И Зямы тоже. Рубашка у Вовы вдруг прилипла к спине. Стараясь держаться как можно спокойнее, он вынул папиросу, извинился перед учительницей и неторопливо, печатая шаг, направился к двери. Но чем ближе он подходил к двери, тем трудней удавалось ему сохранить спокойный вид. «Значит, ушла… Ну ладно. Сейчас я их, голубчиков, накрою…»
Вова вышел во двор и вдруг растерянно остановился. Под акациями, на длинной деревянной скамейке, сидел Зяма. Зяма, а рядом — Иоська Пискун. Оба курили и, перебивая друг друга, увлеченно рассуждали о районной спартакиаде.
Он повернул и вышел на широкую тихую улицу. Куда же, однако девалась Нехамка? Обиделась? За то, что он танцевал с учительницей?… Дурочка! Да ему и самому досадно. Нужна ему эта учительница… Эх, глупо он себя вел, ничего не скажешь. Ну, опоздала она, и что? Сказали же девчонки, что Нехамка еще в поле, ну пошутили, подразнили его… а он, дурак, сразу вскипел… Стояла с Зямой, хохотала… эх, пустяки все это, вот ведь Зяма сидит с Иоськой, а Нехамка ушла куда-то одна.
Вова исчиркал с полдесятка спичек, пока наконец раскурил папиросу. Глубоко затянувшись, спустился вниз по улице, к Нехамкиному дому. Окна светились. Значит, дома! Он знал, что отец ее уехал под вечер на заседание сельсовета и должен вернуться только завтра. Нехамка, стало быть, одна.
Окно ее комнатки, выходившее во двор, было открыто. Вове хотелось неслышно подойти и заглянуть… А если Нехамка испугается? Лучше позвать.
— Нехама!
Из-под застрехи с шумом выпорхнула какая-то птица.
— Нехама! — позвал Вова еще раз и, сдерживая дыхание, стал ждать, когда наконец девушка откликнется и выглянет. Никто не отзывался. Что же это? Неужели она уже спит? Вова решительно подошел к окну и, приподняв занавеску, заглянул внутрь.
В комнате никого не было.
Этого Вова никак не ожидал. Вздохнув, он устало опустился на завалинку и полез в карман за папиросами. Вот так история… Черт знает что… И из-за чего, из-за чего?.. А ему завтра ехать обратно в МТС, и Нехамка об этом не знает. Как он уедет, не повидавшись? Вот так история… Ну что теперь делать? Оставалось одно — ждать. Курить и ждать. И Вова тянул папиросу за папиросой, и вот все на исходе, а Нехамки все нет и нет…
Уже и музыка в клубе перестала играть. Вова слышал, как по улице, громко переговариваясь и смеясь, проходили парни и девушки. Потом смех и голоса стихли.
Одно за другим гасли окна. За каких-нибудь полчаса хутор погрузился в непроницаемую тьму. Только у Шефтла Кобылеца мерцал свет, пробиваясь сквозь густую листву. Зелда, видно, не ложилась, ждала уехавшего в Гуляйполе мужа.
А Вова все сидел на завалинке и, замирая от волнения, прислушивался, не идет ли Нехамка.
«Что это, — думал он с горечью, не зная, на кого ему больше обижаться, на нее или на самого себя. — Почему мы причиняем друг другу столько огорчений? Все делаем назло? Вот он приехал на одни сутки, на один вечер, еле отпросился… И вот уже рассветает, а ее нет. Обиделась. И главное, из-за какой-то ерунды…»
Свет в Нехамкином окне вдруг погас. Вова вскочил на ноги. И в этот же миг окно с треском захлопнулось,
Пришла!
Вова приник лицом к холодному стеклу,
— Нехама…
В окне было темно, Вдруг он услышал, как что-то скрипнуло, не то стул, не то кровать…
— Нехама… — повторил он беспомощно. — Я тебя, наверное, уже три часа жду. Ну что ты молчишь? Сердишься? Хочешь, чтобы я ушел? Скажи, и уйду…
Ему по-прежнему не отвечали. Нехамка — она только сейчас вернулась, — в платье, в туфлях, лежала на своей узенькой железной кровати и, еле сдерживая рыдания, кусала подушку.
«За что, — беззвучно всхлипывала девушка, — за что мне такая обида… За то, что ждала его? Ни разу завесь месяц в клуб не ходила… А он… измучил, на посмешище выставил… А теперь, после всего, — явился…»