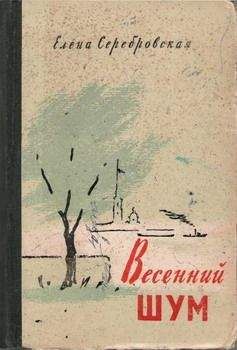— А что в них написано, смыслишь?
— А я грамоте не обучена, мне и ни к чему.
— Дура она темная, — сказал солдат другому, раскладывавшему на столе уцелевшие папки. — А он не промах, горничную, поди, нарочно взял неграмотную. Ты, девушка, соображай: теперь наша власть, рабоче-крестьянская. Теперь они за тобой должны полы мыть, а не ты за ними. Что ихнее было, то теперь наше.
— А они уехали, Николай-то Федорыч, — сказала Варя, сообразив, что солдатам это интересно. — Очень спешили. Словно бы в Гатчину поехали.
— Найдем его и в Гатчине. А ты — иди-ка ты с нами, нечего тебе тут делать больше!
И Варя пошла с ними. С ними ходила она по холодным, изукрашенным комнатам Зимнего дворца, щупала шелковые красные обои, трогала кончиком пальца зеленый малахит. В те дни во дворце было весело: какие-то бойкие руки вытаскивали из его подвалов вина и копченые окорока, улица ворвалась на царскую кухню, стряпала и ела с тарелок севрского фарфора, горланила и разгуливала по длинным анфиладам комнат. Варю с ее знакомыми солдатами кто-то пригласил выпить за свободу. Она выпила из хрустального бокала, похожего на граненую льдинку, и сказала спутникам:
— Пошли комнаты выбирать!
Новую жизнь Варя поняла по-своему. Она обошла весь дворец и остановилась на маленькой комнатке возле кухни.
— Здесь потеплее будет, и плита рядом! — заявила она своим друзьям, а сама подумала: «Ох, и прогадают те, кто позарится на большие залы. И готовить негде, и дров не наберешься».
Ночевать она осталась в облюбованной ею комнатке. Попрощалась с солдатами, заперлась и плюхнулась на шелковый круглый диванчик.
Утром проснулась от страшного грохота. Кто-то ломился в дверь. Помедлив, она открыла и увидела дядек в суконных куртках, перекрещенных пулеметными лентами. Они трясли какой-то бумагой, чертыхались и гнали всех из дворца. Варя запомнила, как один из них кричал: «Анархию развели, народное добро расхищают, сучьи дети!» Другой говорил тихо и все объяснял, объяснял, объяснял каждому встречному.
Потолковав с Варей, они вышли с ней вместе на набережную, усадили в грузовик и отвезли ее в Смольный. Там она стала работать уборщицей.
— Я видела Ленина, — говорила тетя Варя Маше, переходя почти на шепот. — Живого Ленина видела, и мало сказать — слышала его речь в Смольном на съезде Советов. Только вот мало что упомнила, — даже горько мне подумать! Услышала я его, когда еще темной дурехой была. В двадцатом или двадцать первом году я уже все соображала и другим пересказать сумела б. А то — слушала, смотрела, ура ему кричала со всеми вместе, а понять всего еще не могла.
— И ничего, совсем ничего не помните? — обиженно спрашивала Маша.
— Как ничего! О рабочей нашей власти говорил, и против тиранов… У него в каждом слове мудрость была. Меньшевикам спуску не давал, только я тогда и не знала, кто эти меньшевики. А вид его простой был. Когда он в коридоре шел, среди других и незаметно. Тем только и отличался, что всегда к нему людей тянуло, как железные опилки на магнит. Выйдет из комнаты один, дойдет до конца коридора — и вот уже двадцать человек вокруг прилипли, у всех дело до него.
— Он был великий, — задумчиво сказала Маша.
— Он один у нас. А почему говорят — великий? Потому что всему народу толчок дал, направление. Понял, какие силы в народе заключаются. И самих нас понимать научил.
Да, тетя Варя была счастливой. Она видела самого Ленина. И еще она видела других больших людей. Маша расспрашивала ее беспощадно, не смея сдержать любопытство, желая узнать побольше, побольше о том необыкновенном времени.
— А как вы грамоте обучились? — спросила она однажды.
— Грамоте выучил меня Феликс Эдмундович. Меня после Смольного в Чека направили, тоже уборщицей. Я ни на какую другую работу не годилась, — неграмотная баба и всё. В Чека я кабинет Феликса Эдмундовича убирала, молоко ему грела и ставила стакан на стол. Помню, как узнал он однажды, что в канцелярию к нему мерзавец попал служащим, помню, как Дзержинский выгнал его. А потом сидел за столом долго-долго, голову руками держал и даже молока не выпил. Очень расстроился, что человек из рабочих, а подлецом оказался. Он всеми людьми интересовался. Позвал меня однажды. Говорит: «Ты, оказывается, неграмотная у нас, Варя? Так нельзя. Даю тебе отпуск на два месяца за наш счет, чтоб ты выучилась грамоте. Сиди день и ночь. Ты, говорит, молодая, толковая, куда ж это годится — неграмотной ходить?»
— И вы за два месяца выучились?
— Выучилась читать и маленько писать. Вернулась я после отпуска, вхожу в кабинет. Он поздоровался, обнял меня за плечи и подвел к окну. А там, на доме напротив — кумачевый плакат висит. Он и говорит: «Ну-ка, прочитай, что написано». Ему справок с печатью не надо, сам хочет проверить, на практике. Я и читаю: «Коммунистическая партия — партия трудящихся». «Ну, а ты кто?», — спрашивает и на руки мои смотрит. И я смотрю тоже: грубые, в мозолях, рабочие руки. «И я трудящая», — отвечаю. «Значит, надо и тебе, Варя, в нашу партию вступить». И вступила я. Тогда многие боялись в партию идти. Соседки мне говорили: вернется прежняя власть, всех большевиков повесят. И я, не скажу, тоже побаивалась, но пошла. Мне партийный билет сам Дзержинский из своих рук выдал. А потом он меня стал в комиссии включать, которые обследовали, как детям в детдомах живется. Чего только не было! Один был такой детдом, где ребята голодали, похлебку пустую хлебали, а заведующая на втором этаже барыней жила, человек двадцать родни кормила. Там меня хотели арестовать, меня и двух еще женщин, за то, что мы акт составили об этих безобразиях. Под предлогом, что я подрываю авторитет Советской власти своей критикой. Но мы не струсили, сказали: «Ну-ка, посадите, попробуйте. Сам Дзержинский нас хватится, разыщет». Что ж, два дня продержали нас, а потом сдрейфили. Их всех погнали к лешему с теплых местечек.
Да-а… Вот и учи такую тетю Варю. Она сама кое-чему научить может.
Маша все же не растерялась. Она учила грамматике, географии, рассказывала тете Варе все, что узнавала в школе на уроках обществоведения. Если прежде случалось, что Маша на две-три минуты опаздывала в фабзавуч, то теперь она приходила заранее. Неудобно же было позориться перед таким товарищем, как тетя Варя. Тем более, что это был очень принципиальный товарищ, который не давал поблажки никому и нашел бы в себе достаточно духа, чтобы, если придется, сказать своей симпатичной учительнице-комсомолке: «Иди!»
Великий Октябрь… Буря, гроза, шквал, сметающий все старое, негодное с пути истории! Это было совсем недавно, но Маша уже опоздала, — так ей казалось. Ленина можно увидеть только в мавзолее. Там он лежит, спокойный, похожий на сотни обыкновенных людей, наш великий учитель. Лежит, такой светлый, словно сам излучает свет. И разве не светит его мысль множеству людей в родной России и в далеких чужих странах? Разве не учит она хорошо, правильно жить, жить большими интересами народа, жить интересами будущего?
* * *
Жадно перебирала Маша книги в заводской библиотеке и в библиотеке районного Дома культуры. Она читала о революции в Венгрии, в Германии. Октябрь отозвался во многих странах, он поднял веру трудящихся людей в свои силы, в победу революции.
Еще до фабзавуча, на пионерском собрании в школе Маша познакомилась с немецким коммунистом Куртом Райнером. После того как МЮПРу удалось вырвать Курта из тюремных застенков, он поселился на время в Москве — здесь его бесплатно лечили. Потом отдыхал в санатории, пытаясь восстановить здоровье, — десять лет тюрьмы расшатали его основательно.
Обо всем этом Маша знала из писем — Курт отвечал ей на каждое письмо, в котором она подробно рассказывала ему о работе школьной ячейки МОПР. Это было здорово: знаменитый, замечательный человек писал ей запросто, почти как равной, хотя иногда подшучивал над ее многословием, за которым подчас скрывался довольно скромный итог: пять школьников стали новыми членами МОПРа или во втором классе «а» проведена беседа о братстве трудящихся всех, стран и наций…
Но вот Курт снова приехал из Москвы в Ленинград, приехал работать над книгой. Нередко он приглашал к себе Машу, вспоминал о своем прошлом, рассказывал ей, а потом записывал все это. До чего же это было захватывающе интересно!