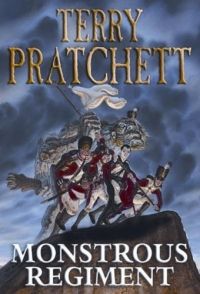А он идет на меня из темноты, молча, не сбавляя шага. Я клацаю затвором, но тут же говорю:
– Это вы, товарищ командир?
Как еще не закричал: «А, узнал, ага!»
Косач быстро подошел, презрительно, как палку, отвел в сторону мою винтовку.
– Почему не стрелял?
Игра так игра, вон какую мне предлагает!
– Я сразу узнал вас.
– Раз не остановился, не назвал пароля – бей!
– Я же…
– Не имеет значения. – Косач близко и внимательно взглянул в мое растерянное и обиженное лицо, усмехнулся: – Двое суток гауптвахты.
Наверное, чтобы уяснил, что война – игра всерьез, свирепая.
Но и тут косачевцы делали поправку на характер своего командира. Днем на гауптвахте действительно скверно, неуютно: нары из ольховых жердочек убираются, стой или сиди на корточках в промерзлой землянке, дыши в воротник, пропахший отцовским табаком… Зато ночью! Ночью у тебя все привилегии, подчеркнутая заботливость караульного взвода.
Интересно, рассказали Косачу хотя бы после войны, как кормили гауптвахту из их штабного котла?
Я сам в этом участвовал, когда выходило стоять на посту возле кухни. Стоишь и знаешь, что скоро явятся. (Звяканье котелков вместо пароля.)
– Смотри хорошенько, если поставлен! – всхлипывает смешком какой-нибудь Рыжий или Зуенок, а у самого уже рукав закатан до локтя. Выхватывает из меньшего котла куски мяса, дует на пальцы, а ты, часовой, ему еще и котелки держи. Один – для гауптвахты.
* * *
… Косач сидит у меня за спиной тот же, но и совсем другой. Впрочем, я не знаю какой.
Что-то свое, хорошее и плохое, отдавали мы тогда этому человеку, что-то наше он нес в себе.
А сейчас свое отняли, забрали и он вроде тот, прежний, но уже и другой.
По-разному это люди переносят. Некоторые страшно удивились и обиделись: был хозяин над жизнью и смертью, а теперь каждый имеет право жить, будто тебя и не было над его волей, судьбой. Иной живет и все прикидывает: да вчера, да я мог, да тебя бы!..
Косач не кажется мне таким. Он умел командовать. Но не думаю, что весь был в этом. Его ироническая, порой даже неуместная улыбка – это какой-то взгляд со стороны на то, что он делал так умело и твердо. Пожалуй, счеты у него были не с одними немцами, фашистами, но и еще с чем-то. С самой войной, что ли? Не оттого ли он менее косачевец, чем все мы, не сближало его с людьми дело, которое он так точно и твердо делал. Да, мы ему отдавали что-то свое, нес он в себе и наше. Но не веселую отчаянность, как Костя-начштаба, а что-то совсем другое. Может быть, человеческую потребность мстить войне войной же. За то, что тебе с ней выпало спознаться.
Если я, конечно, не усложняю Косача. Но и упрощать его тоже нельзя.
Да и то сказать: теперешнего Косача я почти не знаю.
Всю дорогу он молчит. Вдвоем с Глашей молчат. Когда она его увидела, на лице ее, возможно, ничего не отразилось. Лицом люди учатся владеть, но рука скажет все – на моем плече была ее рука.
Я всегда считал себя уродом, даже когда глаза были. Будто может человек с глазами быть уродом. Впрочем, до встречи с Глашей меня это не очень занимало. А когда в отряд попал, так даже очень себе нравился. Винтовка, граната – партизан! Какой еще красоты от человека хотеть!
А потом глянула на этого партизана девочка, засмеялась на всю улицу – и все переменилось.
День тот выдался, как специально, сырой, холодный, грязный. Сено подо мной, которое я взял на залитом талой водой лугу, тоже было сырое, тяжелое. Лежа на высоком, ничем не стянутом возу, ехал я по деревенской улице, высматривая, в какой хате мне пообедать. И вдруг увидел Косача верхом на сильном, злом жеребце, а за ним адъютант в ремнях и гусарских бакенбардах. Пока я любовался нами, косачевцами, незаметно и легко (мысленно, конечно) пересадив Женьку-адъютанта на свой воз, а сам вскочив на его коня, я совсем забыл про своего широкозадого Геринга, а он, фашистская морда, мне и подстроил. Внезапно я ощутил, что воз накренился, что скольжу, сползаю вместе с сеном, медленно и неотвратимо – прямо в весеннюю лужу.
– Вали, суше будет! – крикнул Женька, хороня меня в глазах Косача, который сердито на нас оглянулся. А все мы оглянулись на громкий смех девочки. Я готов был убить и себя, и Геринга, и эту хохотунью, которой именно в этот момент обязательно надо было появиться. В огромные разбитые сапоги, как розовые свечи в подсвечник, воткнуты длинные ноги аистенка, в грациозно отставленной руке – грязное ведро, на другой руке – большая тяжелая рукавица из овчины. Собирает для свиней добро, что лошади теряют, а самой вон как весело!
Глаша любит вспоминать этот случай, особенно веселит ее мое тогдашнее возмущение тем, как по-балетному она держала свое ведро. Но, оказывается, рассмешил ее Женька, его гримасы и бакенбарды, а вовсе не я со своим возом.
Косач и Женька завернули в ее двор, они тоже решили передохнуть. А мне уже было не до того.
Жила Глаша с матерью, еще молодой статной женщиной, отца своего знала только по фотографии, на которой он во весь рот смеялся. Откуда-то с Урала приходили от него алименты. А однажды прилетела еще одна фотография, на которой целая гроздь таких же, как у отца, улыбок: Вера, Надежда, Любовь – далекие Глашины сестрички по отцу.
В деревне Глашу и ее красавицу мать называли Глашкой-десятитысячницей, Ульяной-десятитысячницей. Случилось им везенье выиграть такую сумму на облигацию, даже в районной газете сообщалось про это. Вот тогда хозяина дома и завертело-закрутило, аж на Урал закинуло.
Нравился Глаше сначала не Косач, а Женька, «если бы только не такой рукастый». Они с Женькой ссорились, обливали друг друга водой, почти дрались и громко, сердито оправдывались, она – перед матерью, он – перед командиром: «Пусть сам (сама) не лезет!»
Летом сорок третьего года немцы взялись бомбить партизанские деревни. Глаша вдруг оказалась в нашем отряде. Ульяна упросила Косача, хотя у нас даже на кухне и в санчасти были почти исключительно мужчины. Мать Глаши справедливо рассудила, что в партизанском лагере все-таки безопасней, чем в семейном, куда она сама переселилась вместе со всей деревней.
Вначале возле кухни да в санчасти стали замечать коротковолосую узенькую, как линеечка, девушку, застенчиво рослую и быструю. Для своих семнадцати лет она была довольно высокая, но с такими узенькими плечами, смущенно тянущимися кверху, такие у нее были радостные синие глаза, что порой она казалась совсем девочкой.
То, что пришло, пришло не сразу – после очередной «блокировки», блокады.
Блокада кончилась, мы снова начали замечать многое в мире. Из блокады люди обычно выходили, как после изнурительной болезни: ослабевшие, но невероятно жадные к тишине, сну, смеху, голосам, дневному свету. День снова становился днем, а ночь – ночью, луна уже не была похожа на осветительную ракету, а человеческие тени – на могильные ямы.
Вот тогда мы и обнаружили, что возле нас живет «командирша».
Прежний наш лагерь немцы разрушили, сожгли, жили мы уже в другом лесу, спали не в землянках, а прямо под деревьями или же в «райских шалашиках» – маленьких буданчиках из еловой коры.
Дневалишь под утро среди этого временного табора, окруженного зябко, стыдливо белеющими елями, с которых содрана, снята кора, и внезапно заметишь, как в крайнем от дороги буданчике покажутся из-под тулупа разутые ноги и тут же испуганно спрячутся. Голос Косача в буданчике неправдоподобно добродушный, а Глашин смех такой вдруг женский, глубокий.
Если Косач уезжал в эту пору, провожали его влюбленно-ревнивые взгляды, мой и Глашин. А однажды наши с нею взгляды встретились. Косач задумчивой трусцой проехал мимо меня, я взглядом проводил его и оглянулся на буданчик. Глаша сидела, зябко обхватив тулуп на коленях, глаза ее, потеряв за деревьями Косача, наткнулись на дневального. Не знаю, что мой взгляд сказал ей: кажется – так и быть! – разрешал и ей любить командира. На лице ее мелькнул испуг, и она спряталась в буданчике.
Вставала «командирша» теперь позже всех. Но я понимал, что это от страха перед нами, перед нашими улыбочками, взглядами. Все, чего Косач, возможно, и не замечал, теснило ее вдвойне, как только наступали утро, день.
Вот проснулся наш лагерь: кашляют, смеются, закуривают, умываются желтой, как холодный чай, болотной водой. Кто сухарь грызет, кто высек кресалом или с кухни принес огонь и развлекается, спасается от комаров костерчиком, а кто оружие осматривает. Ночь кончилась, но день еще не начался – самое время громко перекликнуться с другом через весь лагерь, обсудить или обсмеять что-либо, коголибо.
В командирском буданчике будто и нет никого. «Командирша» появляется перед нами уже одетая и причесанная. Сторонкой проходит к бочке с водой, беззвучно, точно разбудить кого-то боится, умывается под деревом. Чаще всего в аккуратных сапожках и сером немецком свитере, не закрывающем ее худенькой шеи, но вдруг появилось еще и черное платье – такое свободное на узеньких плечах, такое шелковое, нелепое. Ей хотелось перед нами быть как можно взрослее, а выглядела она в этом длинном платье еще беззащитнее. И особенно эта ровная и неприятная, какая-то чужая женская белизна, проступающая сквозь черный шелк!